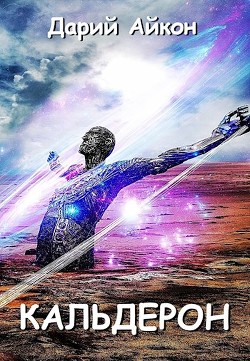и тихо я забрала поднос и снова заперла дверь. Заставила себя поесть. Яйца всмятку проскочили хуже сухого тоста, усыпавшего постель крошками. Холодное молоко освежило меня, и я вспомнила старую Мэнди и ее грустные задумчивые глаза. Жива ли она? Сколько вообще живут коровы?
Доев, я оставила пустую тарелку в коридоре, чтобы миссис Хатч не волновалась из-за отсутствия у меня аппетита. От еды потянуло в сон, но я старалась с ним бороться: мне нравилось ощущение полного истощения, оно обостряло все чувства.
К концу дня воздух начал разъедать кожу. Свет жег уголки глаз, и держать их открытыми стало больно. Несмотря на все свои усилия, я все-таки провалилась в самый глубокий сон в своей жизни. Я проспала до следующего дня. Разбудил меня стук в дверь. Я не сразу поняла, где я, и чувствовала себя тяжелой и неуклюжей, как будто меня как следует потрясли, перевернув все вверх тормашками.
— Сигне?
— Да? — Я села. Голос плохо слушался.
— Это миссис Хатч. У тебя все хорошо?
— Да. Только поспать бы немного.
— Уже десять утра, и ты не тронула поднос, который я оставила. Ребенок в порядке?
— Да, она спит. Оставьте поднос, я заберу, как смогу.
Она надолго замолчала.
— Повитуха заходила утром, но велела тебя не будить. Сказала, что придет днем.
— Хорошо. — Я выбралась из постели и попыталась зашнуровать туфли. Сон и яркое безжалостное утро сделало все ужасающе реальным. Господь всемогущий, что я натворила?! Я была уверена, что выкинуть даже мертвого ребенка в реку — уже преступление.
Я дождалась, когда миссис Хатч ушла, высунула голову в коридор, убедилась, что никого нет, схватила с подноса кусок хлеба и побежала на улицу. Тротуары были мокрыми от дождя. Блестели лужи. Белые плотные облака плыли над домами, будто над нашим миром находился еще один. Вот бы исчезнуть там, оставив этот мир, где все было таким хрупким.
Я шла, сама не зная куда. Швы между ног горели, когда бедра соприкасались друг с другом. Жаль, у меня не было денег на настоящую еду. Я прикончила хлеб, но голод все еще сжимал желудок. Я подумала, не пойти ли на Малберри-стрит? Может быть, Ренцо сидит на своем ящике и курит. Я бы призналась ему во всем. Переложила на него часть своей ноши. Обвинила бы в том, что он не остался со мной. Или притворилась, что никакого ребенка не было, и прошла бы мимо него в квартиру тетки Марии. Она хотела, чтобы я вернулась. Она сама так сказала, а позорить маму теперь было нечем.
Ужас моего положения гнал меня вперед без цели. Я бродила весь день, не обращая внимания на боль между ног. Я оказывалась в местах, которых никогда раньше не видела, смотрела, как мимо проезжают автомобили и телеги, как во все стороны неконтролируемым потоком движутся люди, как тени переползают с одной стороны улицы на другую. Мышцы живота казались разорванными и растянутыми, но грызущий голод ушел, и без воды и еды только чуть-чуть кружилась голова. Хуже всего было то, что молоко, которое подтекало из груди, оставляло на платье пятна. Хорошо, что пальто налезало на грудь. Я застегнула его доверху, сунула руки в карманы и продолжила путь, глядя себе под ноги.
Когда я дошла до Колумбус-серкл, уже стемнело. Только наткнувшись на Эрнесто, я поняла, что шла сюда специально, обманывала себя, убеждая, что знакомое доброе лицо кузена успокоит меня. Он распахнул глаза от удивления, и мы тупо смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Хорошо одетый господин взял газету из стопки у ног Эрнесто и бросил монетку в его грязную руку, затем свернул газету трубочкой и ушел.
Эрнесто подбросил монету и нашел в себе силы сказать:
— Мне жаль твою маму.
— А мне твоих сестер.
— Глупо так говорить. — Монета еще раз перевернулась и шлепнулась ему на ладонь. — Какие там соболезнования… Но других слов у меня нет.
— И у меня. — Наступило неуютное молчание. Я заметила, что Эрнесто один, без брата. — А где маленький Пьетро?
— Мама не выпускает его из дома.
— А откуда вы берете деньги?
— Армандо вернулся домой.
— Наверное, это хорошо. С той женщиной не вышло?
— Кажется. Он не сказал.
Еще один господин остановился купить газету, кинул Эрнесто монету, не гладя на него.
Я посмотрела на стопку газет и успела услышать, как Эрнесто спросил:
— Ты сама как?
И тут же мне в глаза бросился заголовок: «Рыбак выловил из Ист-Ривер младенца». Я застыла. Потянулась за газетой. Новорожденную утопленницу выловили из Ист-Ривер в три часа утра 6 апреля 1911 года. Полиция пытается найти след по обрывку ткани, в который она была завернута. Любой, кто знает что-то об этом жутком преступлении, должен сообщить все, что ему известно. Фото девочки не было — только обрывок бумажного одеяльца в маленьком квадратике рядом с заметкой.
Бросив газету, я побежала, не обращая внимания на кричащего мне вслед Эрнесто. Я металась среди людей, какая-то женщина закричала, когда я врезалась в нее, я бросилась в сторону, в другую, а потом согнулась вдвое от резкой боли в боку. Теплая жидкость струйкой бежала по ноге. Наверное, разошлись швы. Утопленница! Как они это узнали? Нашли ли они воду в легких? Но легкие бы наполнились водой, даже если бы она умерла раньше, правда? Какая разница. Я подумала, что меня повесят, и заставила себя двигаться вперед. Все вокруг стало четким. Я собиралась рассказать миссис Хатч и повитухе, что отдала девочку в приют, но теперь они мне не поверят. Повитуха сама отдала мне это одеяльце, она сразу поймет, о чем речь.
Я думала о фотокарточке, которая осталась в доме. На ней — мы с мамой, строгие и бесцветные. Мое лицо окажется во всех газетах. Мария все узнает. Ренцо и его мать — тоже. Хоть я и не была Кашоли, они никогда не замнут такой скандал.