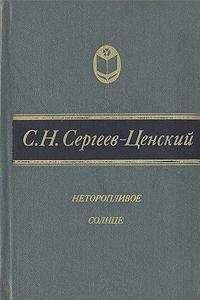Собака залаяла вдруг под самым окном — какая-то дворняга с широким горлом. Старик поднялся вдруг, запахнул халат. Встревоженно оглядел окно и дверь. Прислушался. Был, как вор, забравшийся в клеть. А столетний смотрел на него с тихим испугом.
Отбежала собака и залаяла где-то дальше.
Дед согнулся, махнул тихо рукой и опять сел на хряснувшую под ним кровать.
— Кому тут подслушивать?.. Могила. Тут всяк себя слушает… Тут сам себя никто не поймет… Батя! Долго езжу, все езжу, смотрю… Видел много, а все не сыт; весь мой грех в этом: не сыт… Я и в прошлом году в это время у тебя был… и в позапрошлом тоже… Отчет давал… А в чем отчет, ей-богу, не знаю… Я ведь не грешу, гляжу только… Ох, и широко же, — конца-краю нет, а ступить некуда… То есть для ноги твердого места нет, вот я о чем… А отчет, — потому что нужно же кому-нибудь сказать все, что есть… Это хорошо, что ты не слышишь… Это еще, пожалуй, лучше… а то бы кто знает?.. Сам для себя говорю.
Дед придвинулся ближе к лицу столетнего и сказал вдруг тихо:
— Жалости ни к кому не чувствую — вот мой грех. Теперь я остался один: без жалости человек уж совсем один… Что ветер, что я… так мы и гоняемся друг за дружкой… Душу-то, вот как у тебя, придет враг и вынет… Жалость вынул, теперь уж кончено…
Хрустнул пальцами на руках и потом заговорил, странно спеша:
— Девицу раз одну — гулящую девицу — в лес увез. Раздел. Голую на муравьище посадил, ей-богу. Внук-то сегодня, — он глуп, а почти что догадался… Руки связал и рот забил… Сел на корточки около и все ей в лицо смотрел — вот так в глаза самые… Да ведь и зрелище!.. Муравьи ее поедом едят; корежит ее; красная; слезы текут… А я смотрю… Долго смотрел. Безгласная: кричать ей нельзя… Смотрел и никакой жалости не чувствовал, — вот грех!.. Развязал ее потом, муравьев отряхнул… Оделась… денег дал… Да ведь ты что думаешь? Рада еще была, что много денег дал: целовать лезла, ей-богу. Выходит, что и жалости тут неоткудова взяться. Не все, значит, и пожалеть можно? Вот уж и не грех. А то старичку одному святому бороду раз поджег спичкой. А зачем поджег? Так все… Думал: жалко станет, не подожгу. В скиту это, в монастырьке… Пришел к нему будто за очищением духовным, на колени перед ним стал — все честь честью, а он на лавке сидел, бороду свесил… Борода длинная, жесткая… смешалась с моей, — насилу распутал. Он-то говорит, а я спичку наготовил, чирк потихоньку — и пошло. На чутье старик был тупой, на ухо тоже… Кричит мне что-то, наставления-то свои, а мне смешно, а волосы трещат… Ведь сколько истлело бороды-то! Как вскочит он вдруг, хвать рукой за бороду, — взвыл ведь, на что святой. Так ему образа божьего жалко стало… «Да ты что же это, злодей?» Да «анафема», да «изверг»… хорошо ругался старик… Какая уж тут жалость?.. А я поднялся выше его головы на две, да и старше, да и святости во мне, пожалуй, больше, потому что ищу, а он уж нашел… смотрю на его бороду, — хохот берет… А тут уж из сеней в дверь лезут… то да се… Вклад в монастырек пришлось сделать… за бесчестье-то… да!.
Дед махнул рукой, чуть смеясь, чмыхнул носом.
— А то еще так было. В поле как-то… шел, смотрю, — слепой в холодке под ветлой спит, а поводарь-мальчонка жуков ловит. И ведь вот придет же в голову! Отозвал мальчонку: «Огадь, говорю, слепенького… Огадишь, гривенник дам». Такой тихий, видно, слепенький, пожилой, худищий, — а жалости к нему нет… Думал, мальчишка не огадит, побоится, — нет, огадил-таки. Слепой выть, а тот на меня кричать, будто это я: маленький, а хитрый. Потом ко мне: «Давай гривенник». А я не дал, — вот ведь. Не дал и пошел дальше. Додумался-таки и мальчонку обидеть. И не то чтобы его за издевку наказать, а так… Обидел, и все…
И дед вдруг улыбнулся большим лицом. Заколыхалась улыбка плотная и резкая, как сетка из проволоки. Не шла она ни к этой комнате с лампадкой, ни к этой ночи. Даже столетний вглядывался в нее пристальней, чем глядел всегда, и начинал морщиться невнятно. А дед наклонился к нему и прошептал:
— Хоть в палачи, — вот до чего дошел: костенею. На мертвых смотреть пробовал — и не жалко… К тебе, значит, иду. А? Человека перестал чувствовать, — совсем…
Близки были их лица: большое и сырое у деда, — сухое, черное у столетнего, и вдруг заметил дед, как лицо отца начало кривиться. Было похоже на то, что до каких-то далеко спрятанных тайников его мысли дошла улыбка сына и он хочет тоже улыбнуться ей в ответ. В густых складках век он утопил глаза, так что остались только две искристо-жутких точки, губы подобрал к нахлобученному носу, приоткрыв темную впадину рта, и гладкий широкий лоб его стал веселый. Дед отодвинулся, заметив это, и глядел с тем напряжением, с каким разглядывают весною дети первое насекомое, ползущее по земле.
— Ишь как это у тебя выходит, — искренне изумился он. И глядел. Но столетний уже сбирал с лица гримасу, как сбирают крошки со стола, стягивал ее изо всех углов и прятал, и, чтобы вызвать ее снова, дед, низко наклонясь к нему, медленно стал улыбаться.
Дом был переполнен тишиною, как-то до краев был налит ею, отчего она начинала уже звучать неясно, а дед, нагнувшись так, чтобы свет падал ему в лицо, улыбался то просто, как дети, то лукаво подмигивая, то хихикая беззвучно, как это делают идиоты.
Но столетний смотрел на него с ужасом, готовый завыть. Глаза его четко округлились, губы вытянулись в хоботок, и, заметив, что он пугается, дед сдвинул брови, дико оскалил зубы и медленно ладонь правой руки с растопыренными пальцами стал приближать к его лицу.
Сморщился и заплакал вдруг столетний, воя, хлюпая носом, точно потухла лампадка. Дед выпрямился, оглянулся на двери.
— Ну, будет уж!.. Э-э, как ты здорово!.. Будет, видел уж! Оставь! Какой чудак!.
Так плакал столетний, как плачут самые маленькие, грудные, недавно рожденные дети, и перед глазами деда мелькнуло большое, почему-то красное колесо и сделало полный оборот. В одной общей точке слились восход и закат жизни. Дед представил себе отца, каким помнил его давным-давно, с детства, — жилистым, красным, с громовым смехом и с вечной, такой живою, точно часть его самого, глупой поговоркой: «Ну-с, и вот сам Мартын с балалайкой». Какие-то веселые глаза его, точно два осколка хрусталя на солнце, припомнил вдруг так ярко, что зажмурился от их блеска. Представил того — и увидел этого рядом. И перед размеренным бесшумным ходом времени над полями погасло то крикливое, с чем он пришел сюда ночью. Дед почувствовал, что он стал меньше ростом, мягче костями и жилами, легче весом, беспомощней и робче. Забылось как-то сразу то, что он хотел сказать еще столетнему. Многое, страшно многое, горевшее в нем, потухло и забылось.
Согнулись в коленях ноги. Локтями он оперся на ребро отцовской кровати; трогательно долго смотрел в его внимательное лицо, потом поцеловал кипарисовую руку и вышел, тихо притворив дверь.
Подали лошадей. Уезжал дед опять куда-то в нутро полей.
С утра, когда приказал он запрягать, солнце расшвыряло сырые тучи и присмотрелось было весело к земле — к желтым жнивам, к деревням и дорогам, потом опять ему стало скучно видеть одно и то же, и задернуло оно сплошь все синие окна. Стало темно, сиверко. Тонко-капельный дождик, надоедливый, сизый, захватил даль. Взмокла лошадиная шерсть. Жирный кузов фаэтона чванно плакал. Серапион с козел хмуро косился на крыльцо, где прощался дед с Ознобишиным и Анной.
Сивобородый, ставший еще выше от длинной бурки, он говорил Ознобишину:
— Это мы ведь просто привыкли к земле, потому и живем. Ну, а попробуй только появись на земле кто-нибудь, кто побольше человека… Умер бы он от тоски в одночасье — и больше ничего.
Усталое лицо было у деда, и как-то больно отозвались его слова в Анне. Попали в тонкую, глубоко спрятанную струну, о которой и не знала Анна, что она есть, а она была. Показалось вдруг, что не хотели рождаться они, те, прежние шесть, на эту землю, и потому не родились.
— Останься, — дотронулась до него Анна. — Куда ехать?
Глаза у нее были испуганные, большие, требующие, молящие.
Дед долго смотрел на нее и сказал ей тихо:
— Вот кого мне жалко: тебя жалко… Этим я еще и жив.
Оглянулся на небо и землю в дожде и добавил:
— А ехать некуда. Это правда.
— Останься, поживи, конечно… Куда ехать! — отозвался и Ознобишин.
— Ехать некуда, — повторил дед.
И Маша, которая стояла тут же в своем маково-красном платье, звонко закричала Серапиону:
— Скорпион, отпрягай! Марш в конюшню!
— Ну, прощайте все же! — сказал, вдруг встряхнувшись от этого крика, дед. — Поеду.
— Куда? Не нужно ехать, — схватилась за его бурку Анна.
— Ехать тошно, — улыбнулся дед. — А ведь сидеть-то на месте еще ведь тошней… Поеду, уж так и быть, привычка.
И он уехал.
Сизый дождь глотал колокольчик, собачий лай, лошадиное фырканье, топот копыт и черный верх фаэтона.