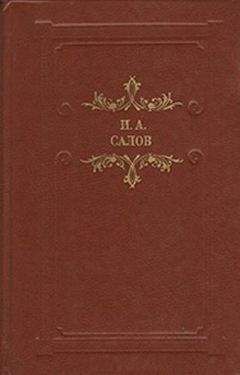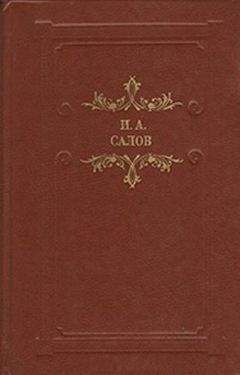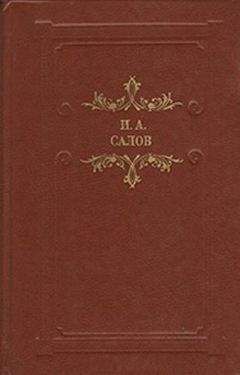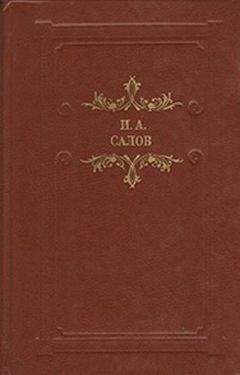Немного погодя я опять как-то зашел к Калистову; смотрю, у него сидит просвирня, сидит и говорит:
— Да, Петр Гаврилыч, уж так бы была я вами благодарна, кабы вы мою Анночку грамоте выучили.
— Что же, это все ничего, можно, — говорит.
— Добрый вы человек, Петр Гаврилыч, — говорит просвирня, — недаром я вас словно родного сына полюбила. Так, значит, можно к вам Анночку присылать?
— Присылайте, ничего.
— Очень, говорит, вам благодарна. А я для вас, Петр Гаврилыч, всей душой. Конечно, я, говорит, женщина бедная, беззащитная, а ценить добро все-таки умею.
Я, разумеется, сижу да слушаю. Наконец кончилось тем, что Калистов согласился учить Анночку.
Вскоре просвирня ушла, и мы остались одни.
— А знаешь ли, что я тебе скажу, — проговорил я, обращаясь к Калистову, — я бы тебе посоветовал съезжать с квартиры.
— Это, говорит, почему?
— Да так и так, говорю, что-то тут дело-то подозрительно.
Да и рассказал ему подслушанный разговор.
А Калистов только расхохотался. «Вот, говорит, вздор какой выдумал».
Таким образом начались уроки. Анночка аккуратно каждый день приходила в комнату Калистова и просиживала у него часа по два, по три; а как только, бывало, станет уходить, так и начнет звать Калистова к себе, то на чай, то на пирог. Ну, разумеется, Калистов не отказывался, да оно и понятно, если хотите: человек совершенно один, занятия были только по утрам, а вечер не одному же сидеть. Кроме того, заманивало Калистова к просвирне и то, что был он там всегда первым гостем. Бывало, только покажется в комнату, как просвирня с дочкой не знали куда и посадить его, пойдет угощенье: чай, закуски разные… Что, бывало, Калистов скажет, то и свято. Трубки ли захочет покурить, сейчас ему набивают; ноги, бывало, протянет на стул, а просвирня стоит перед ним да просит разных советов: «Я, дескать, женщина беззащитная, глупая, а умников слушать надо!» Ну, Калистов и барствует; самолюбие удовлетворено, почет во всем, и все это втянуло его в общество просвирни. Как только воротится, бывало, с кондиции, так и к ней; у ней обедал, ужинал, чай пил, а немного погодя стал даже входить и в хозяйственные распоряжения, сделался в доме чем-то вроде хозяина, так что даже и нахлебники, жившие у просвирни, и те во всем ему подчинялись.
Так прошло с месяц.
Сижу я раз дома, читаю книгу; вдруг приходит Калистов.
— Ну, говорит, приятель, поздравь меня.
— Что такое?
— Скоро, говорит, место получу.
— Неужели?
— Да, говорит, скоро.
— Где же это?
— В селе Ивановском. Новая церковь выстроена, и только ждут владыку, чтоб освятить ее, а владыка-то болен.
— Почему же ты знаешь, что именно тебя посвятят туда? — спросил я.
— Как, говорит, почему: сейчас у секретаря был.
— Так это он сказал тебе?
— Он, и он же за мной на квартиру нарочного присылал. Не велел никуда отлучаться теперь. «Ждите, говорит, со дня на день!»
Я только посмотрел на Калистова, а сам внутренно подумал: неужели в самом деле секретарь посылал за ним. Удивительно показалось мне это, и удивительно потому, что никогда таких примеров не бывало. Однако я промолчал и спросил только о том, хорош ли приход?
Приход оказался отличным, — душ в тысячу, но что всего лучше, так это то, что старушка помещица была дружна с преосвященным, стало быть, у Калистова будет и протекция.
Калистов просидел у меня недолго, а вечером пошел я к нему. Входя в калитку, я встретил просвирню.
— Не к Петру ли Гаврилычу? — спросила она меня.
— Да, к нему, — говорю.
— Их, говорит, нет дома, куда-то вышли. Впрочем, они скоро вернутся, вы подождите их. Да не угодно ли ко мне покуда, у меня и самоварчик кстати кипит, чайку бы накушались.
Я зашел, Анночка сидела у окна.
— Нет, каков наш-ат! — проговорила просвирня, когда я уселся.
— А что?
— Как что? Сам секретарь сегодня присылал за ним. Приказал ждать места и никуда не отлучаться…
— Неужели это правда?
— Сама видела.
— А ведь я, признаться, думал, что он врет это.
— Какое же врет! Сама видела. Мы, знаете ли, сидим с Анночкой, а человек вдруг и входит. «Здесь, говорит, живет студент Калистов?» Да таким басом спросил, что я даже вздрогнула. «Здесь, говорю, батюшка». — «Так скажите, говорит, ему, чтоб сейчас к секретарю шел, очень, дескать, нужно».
И потом, вдруг понизив голос, просвирня спросила меня:
— Да что, батюшка, у Петра-то Гаврилыча невеста-то есть, что ли?
«Э! Так вот зачем ты позвала меня чай-то пить, — подумал я, — ну да добро же, я тебя поморочу».
— Нет, говорю, нет еще.
— О чем же они думают? — продолжала просвирня.
— Не знаю.
— Ведь священники-то холостые только в немецких землях бывают, а у нас женатые. Пора бы позаботиться.
— Видно, говорю, не облюбовал еще.
— Так-с, — проговорила просвирня и взглянула на Анночку.
В это самое время под окном послышалось веселое пение. Просвирня узнала знакомый его голос и в одну минуту бросилась встречать Калистова. Анночка тоже вскочила с места и со свечкой в руках побежала на крыльцо.
Между тем весть о том, что секретарь присылал за Калистовым, немедленно распространилась по всем нашим. Все приходили в изумление и не знали, чему приписать такое внимание и благоволение. Некоторые начали завидовать и сердиться на Калистова, называя его хитрым, низкопоклонным; но как они ни сердились, а все-таки к Калистову ходили и даже заискивали его протекции. Калистова это забавляло, и мы, бывало, немало смеялись над всем этим. Владыка между тем все еще не поправлялся и, по отзыву доктора, выехать мог не скоро. Помещица же старушка непременно желала, чтоб выстроенный ею храм был освящен епископом. Стало быть, надо было ждать.
В таком-то положении были дела Калистова, когда получил я из деревни письмо, в котором меня извещали, что матушка, простудившись во время мочки коноплей, не на шутку захворала. Я простился с Калистовым, нанял лошадей и поскакал домой. Приехал я через сутки и нашел, что матушка действительно больна; но так как у нас в селе есть у помещика больница и немец лекарь, то, значит, больная была не без помощи и можно было надеяться на выздоровление. Кроме того, в болезни матушки принимала участие и сама помещица: она каждый день ходила ее навещать и приносила чай, варенье; словом, все ухаживали за матушкой. Приезд же мой помог лучше всяких ухаживаний. Не дальше как на третий день матушке было гораздо лучше, но ехать в город я все еще не решался. Кроме того, удерживало меня также и то, что надо было молотить хлеб, а так как у батюшки работника не было, то я и решился помочь ему в молотьбе.
Однажды как-то батюшка куда-то уехал, и я был один на гумне; вдруг, смотрю — идет Лиза.
— Бог помощь, говорит, Иван Степанович.
— Ах, это вы, Елизавета Николаевна, — говорю я, — как поживаете?
— Ничего, слава богу. Это вам и не стыдно, говорит, Иван Степанович?
— Что такое?
— Да к нам не побывать!
— Да все недосуг, — говорю.
— Как же, говорит, поверю я вам. Нет, уж вы просто поспесивились. Да что это вы одни, говорит, молотите, дайте-ка я помогу вам.
Я было попросил ее не беспокоиться, да она и слушать не хотела, взяла цеп и принялась молотить, и у нас так пошла работа, что просто прелесть, в два цепа; да ведь как валяли-то, только пыль столбом летела.
— А я, — говорит Лиза, не переставая молотить, — нарочно к вам пришла. Услыхала, что вы из города приехали, и пошла. Что, как там?
Я смекнул, в чем дело.
— Это, говорю, насчет Петрухи?
— Да, говорит, насчет его. Что, как он здоров?
— Слава богу, кланяться приказал.
— Спасибо… А письма нет?
— Давно ли он вам писал-то!
— Недавно-то недавно, но я полагала, что с вами еще напишет. А что место?
Я рассказал ей все подробно и рассказ свой покончил тем, что, по всей вероятности, весьма скоро она будет уже «матушкой» в селе Ивановке.
После этого посещения я виделся с Лизой почти каждый день; то она ко мне завернет, то я к ней. Ни в чем не завидовал я Калистову: ни его успехам в семинарии, ни протекции, которую оказывал ему секретарь консистории, ни месту, которое он получает прежде других, но в отношении Лизы — грешный человек — зубы точил на него. Так я в нее втюрился, как не может втюриться самый отчаянный мальчишка. Не поверите ли, я даже с ужасом помышлял о той минуте, когда Калистов, получив место, явится в Скрябино и поведет к венцу Лизу. Теперь, конечно, я понимаю, что все это было глупо, гадко, ну, а тогда дело было иное.
Раз как-то прихожу к ней: смотрю, у крыльца пономарского домика стоит щегольская тележка, запряженная тройкою лошадей. Сбруя на лошадях с медными бляхами, с кистями, с переметами, в гривах вплетены разноцветные ленты, бубенчики так и громыхают при малейшем движении лошадей.
— Кто это? — спрашиваю я у кучера.