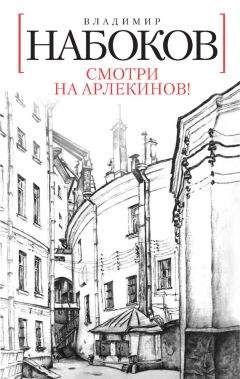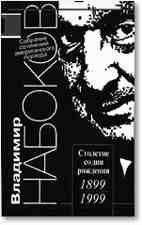8
– Ирис, я должен сделать признание, касающееся моего душевного здравия.
– Погодите минутку. Надо спустить эту проклятую штуку как можно дальше – так далеко, как дозволяют приличия.
Мы лежали с ней на причале, я навзничь, она ничком. Она содрала с себя шапочку и возилась, пытаясь стянуть плечные бридочки мокрого купальника, чтобы подставить солнцу всю спину; вспомогательные бои развернулись на ближней ко мне стороне, рядом с ее аспидной подмышкой, – бесплодные усилия не обнаружить белизну маленькой груди в месте ее мягкого слияния с ребрами. Как только она, извернувшись, добилась удовлетворительного декорума, она полуоткинулась, придерживая черный лиф у груди, и свободная ее рука закопошилась в очаровательных шустрых поисках, напоминающих обезьянью поческу, – обычных у девушки, выкапывающей что-то из сумки, – в данном случае лиловую пачку дешевых «Salammbôs»[27] и дорогую зажигалку; затем она снова притиснула грудью расстеленное полотенце. Мочка уха пылала среди черных привольных прядей «медузы», как называлась в начале двадцатых ее стрижка. Лепка ее коричневой спины с маленькой родинкой под левой лопаткой и с длинной ложбинкой вдоль позвоночника, искупающей все оплошности эволюции животного мира, болезненно отвлекала меня от принятого решения предварить предложение особливой, необычайно важной исповедью. Несколько аквамариновых капель еще поблескивало снутри ее коричневых бедер и на крепких коричневых икрах, и несколько камушков мокрого гравия пристало к розовато-бурым лодыжкам. Если в моих американских романах («A Kingdom by the Sea», «Ardis») я так часто описывал невыносимую магию девичьей спины, то в этом главным образом повинна моя любовь к Ирис. Плотные маленькие ягодицы, – мучительнейший, полнейший, сладчайший цвет ее мальчишеской миловидности, – были как не развернутые подарки под рождественской елкой.
Вернув, после этих недолгих хлопот, на место терпеливо ожидавшее солнце, Ирис выпятила полную нижнюю губу, выдохнула дым и наконец сообщила:
– По-моему, с душевным здоровьем у вас все в порядке. Вы иногда кажетесь странноватым и хмурым, нередко глупым, но это в природе гения, се qu’on appelle[28].
– А что такое, по-вашему, «гений»?
– Ну, способность видеть вещи, которых не видят другие. Или, вернее, невидимые связи вещей.
– В таком случае я говорю о состоянии жалком, болезненном, ничего общего с гениальностью не имеющем. Давайте начнем с живого примера, взятого в доподлинной обстановке. Пожалуйста, закройте ненадолго глаза. Теперь представьте аллейку, ведущую к вашей вилле от почтовой конторы. Видите, платаны сходятся в перспективе, а между двух последних – калитка вашего сада?
– Нет, – сказала Ирис, – последний справа заменен фонарным столбом, – его не так-то легко разглядеть с деревенской площади, но это фонарь, обросший плющом.
– Ну пусть, не важно. Главное, вообразите, что мы глядим из деревни, отсюда, в сторону садовой калитки – туда. В этой задаче нужна особая осторожность в отношении наших «там» и «тут». Покамест «там» – это прямоугольник солнечной зелени за полуотворенной калиткой. Теперь начинаем перемещаться по аллейке. Справа на втором стволе мы замечаем остатки какого-то местного объявления —
– Это Ивор его налепил. В нем объявлялось, что обстоятельства изменились и подопечным тети Бетти следует прекратить их еженедельные визиты.
– Великолепно. Продолжаем двигаться к садовой калитке. Между платанами по обе стороны видны кусочки пейзажа. Справа от вас, – пожалуйста, закройте глаза, чтобы видеть получше, – справа от вас виноградник, слева церковь и кладбище, вы различаете его длинную, низкую, очень низкую стену —
– У меня мурашки от вашего тона. И еще я хочу что-то добавить. Мы с Ивором нашли в ожине старое покосившееся надгробье с надписью «Dors, Médor!»[29] и с единственной датой – смерти – 1889-й; скорее всего, могила приблудной собаки. Это перед самым последним деревом слева.
– Итак, мы добрались до калитки. Мы уж было вошли, но тут вы внезапно остановились: вы забыли купить красивые новые марки для своего альбома. И мы решаем вернуться на почту.
– Можно я открою глаза? А то я боюсь заснуть.
– Напротив: самое время закрыть их покрепче и сосредоточиться. Мне нужно, чтобы вы вообразили, как вы разворачиваетесь, и «правое» сразу становится «левым», и вы вмиг ощущаете «тут» как «там», и фонарь уже слева от вас, а мертвый Медор – справа, и платаны сходятся к почтовой конторе. Можете это сделать?
– Сделано, – сказала Ирис. – Поворот кругом выполнила. Теперь я стою лицом к солнечной дырке с розовым домиком в ней и с кусочком синего неба. Что, можно шагать обратно?
– Вам-то можно, да мне нельзя! В этом вся суть нашего опыта. В действительной, телесной жизни я поворачиваюсь так же просто и быстро, как всякий другой. Но мысленно, с закрытыми глазами и неподвижным телом, я не способен перейти от одного направления к другому. Какой-то шарнир в мозгу, какая-то поворотная клетка не срабатывает. Я, разумеется, мог бы сжулить, отложив мысленный снимок одной перспективы и спокойно выбрав противоположный вид для прогулки назад, в исходную точку. Но если я не жульничаю, некая пакостная помеха, которая свела бы меня с ума, примись я упорствовать, не дает мне вообразить разворот, преобразующий одно направление в другое, прямо противоположное. Я раздавлен, я взваливаю на спину целый мир, пытаясь зримо представить себе, как я разворачиваюсь, и заставить себя увидеть «правым» то, что вижу «левым», и наоборот.
Мне показалось, она заснула, но, прежде чем я утешился мыслью, что она не услышала, не поняла ничего из того, что губит меня, она шевельнулась, вернула на плечи бридочки и села.
– Во-первых, – сказала она, – давайте условимся оставить все эти опыты. Во-вторых, признаем, что сама наша затея сродни попыткам разрешить дурацкую философскую головоломку – вроде того, что значат «правое» и «левое» в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в пустом пространстве, да заодно уж и что такое пространство; я вот думала в детстве, что пространство – это то, что внутри нуля, любого, нарисованного мелом на доске, пускай не очень красивого, но все же хорошего, отчетливого нуля. Мне не хочется, чтобы вы сошли с ума или меня свели, – ведь эти сложности заразительны, – так что лучше нам совсем перестать крутить ваши аллеи. Я бы с удовольствием скрепила наш договор поцелуем, но придется его отложить. С минуты на минуту появится Ивор, он собирается покатать нас в своей новой машине, но, поскольку вы, наверное, кататься не захотите, давайте встретимся на минутку-другую в саду, перед самым обедом, пока он будет принимать ванну.
Я спросил, что ей рассказывал Боб (Л. П.) в моем сне.
– Это был не сон, – сказала она. – Он просто хотел узнать, не звонила ли его сестра насчет танцев, на которые они нас троих приглашают. Ну, если она и звонила, дома все равно было пусто.
И мы отправились в бар «Виктории» перекусить и выпить, и там нас нашел Ивор. Он сказал, глупости, он отменно танцует и фехтует на сцене, но в обычной жизни – медведь медведем, и потом, ему противно, когда любой rastaquouère[30] с Лазурного Берега получает возможность лапать его целомудренную сестру.
– Между прочим, – добавил он, – мне как-то не по душе маниакальная одержимость П. ростовщиками. Он едва не пустил по миру лучшего из имевшихся в Кембридже, но только и знает, что повторять о них традиционные гадости.
– Смешной человек мой брат, – сказала Ирис, обращаясь ко мне, точно на сцене. – Нашу родословную он скрывает, словно сомнительную драгоценность, но стоит кому-то назвать кого-то другого Шейлоком, как он закатывает публичный скандал.
Ивор продолжал балабонить:
– Сегодня у нас обедает Морис (его наниматель). Холодное мясо и маседуан под кухонным ромом. Еще я разжился в английской лавке баночкой спаржи, – она гораздо лучше той, что выращивают здесь. Машина, конечно, не «Ройс», но все ж и у ней имеется руль-с. Жаль, что Вивиан слишком слаб на желудок, чтобы с нами поехать. Нынче утром я видел Мадж Титеридж, она уверяет, что французские репортеры произносят ее фамилию как «Si c’est riche»[31]. Никто не смеется сегодня.
Слишком взволнованный для моей обычной сиесты, я потратил большую часть предвечернего времени на любовное стихотворение (ставшее последней записью в карманном дневничке 1922 года, – сделанной ровно через месяц после приезда в Карнаво). В ту пору у меня, казалось, были две музы: исконная, истошная, истинная, терзавшая меня неуследимыми вспышками воображения и ломавшая руки над моей неспособностью усвоить безумие и волшебство, которыми она наделяла меня, и ее подмастерье, подмена, девчонка для растирания красок, маленькая резонница, набивавшая в рваные дыры, оставляемые госпожой, пояснительную или починявшую ритм начинку, которой становилось тем больше, чем дальше я уходил от начального, тающего, варварского совершенства. Неверная музыка русских рифм обманно выручала меня, наподобие демонов, нарушающих черную тишь художнического ада подражаниями греческим поэтам и доисторическим птицам. Еще один, и уже последний лукавый обман совершался в беловике, где чистописание, веленевая бумага и черная тушь на краткий срок скрашивали мертвящие вирши. И только подумать – едва не пять лет я все упорствовал и все попадался в ловушку, пока наконец не прогнал эту размалеванную, забрюхатевшую, покорную и жалкую служаночку.