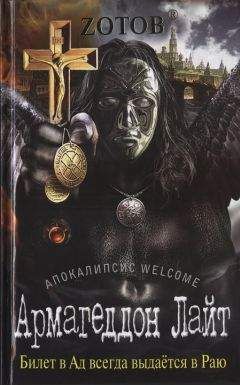может, а уж о реальном участии в продолжении генофонда я и не говорю. Так и животные эти, которые особенным образом приспособились к среде своей, жирафы всякие, птицы эти дальнобойщики, какие-нибудь там коалы, оказались на периферии настоящей эволюции. И теперь умирают пачками, вместе со своей средой, во благо и к умилению победителей – нас с тобой, да рыжих тараканов.
Он поморщился. Видимо, ему, как и мне, не светила перспектива остаться наедине с тараканами. Я иногда представлял себе фильм, почернее, где мы, наконец, благополучно добиваемся превращения планеты в необитаемую пустыню. И вот, в печальном финале, главный герой смотрит на пейзаж за окном, а там что-то такое марсианское, в красных и коричневых тонах, и окно это толстенное, как глубоководный иллюминатор. И на стекло рядом с ним выползает красивый в своей отвратительности, с жирноватым отливом, тараканище. Главный герой улыбается, поглаживает его пальцем, и зовет по имени. Это куда более реально, чем то, что мы успеем создать себеподобных киборгов, которые будут носить нас на руках, записывать наши бессвязные истории и всячески о нас заботиться.
Сменив позу, он подмигнул мне:
– Ну хорошо, допустим. Давай тогда продолжим логическую цепочку. Получается, что группа убожеств, вооружившись от безысходности палкой и камнем, прорубила себе эволюционное окно в прекрасное будущее. Здесь и практически абсолютная безопасность, и возможность контроля над климатом в своей отдельно взятой бетонной коробке, и вполне реальная ощипанная утка, доставляемая, может, не через дымоход, но не менее чудесным образом прямо на стол.
– Что интересно – убожества эти не только не стали сильнее, выше и быстрее, а скорее наоборот. Единственными до сих пор не побежденными врагами остались собственная глупость и обжорство.
– И вот – добившись всего этого толпой, великие и ужасные победители природы, эти гиганты на щуплых ножках, заперлись по своим коробкам и тыкают бледными, немощными пальцами в разные, там, кнопки, экраны, просто в пустоту, залепив себе глаза трехмерным калейдоскопом. Как получилось, что наткнувшись на простую истину, что один ум хорошо, а два лучше, мы снова разбрелись по своим углам? Разве не так? Мне кажется, что пройдет еще пара поколений, и будет совершенно неудивительно встретить человека, который никогда ни с кем не разговаривал вживую, да что там – никогда всерьез не покидал своей черепной коробки! И главное – человек этот будет абсолютно счастлив, совершенно не понимая, о чем мы с тобой сейчас разговариваем, куда и зачем едем. Само слово это приобретет новое значение, как случилось со словом послать, или распечатать.
За окном загремел встречный поезд, несущийся, казалось с около-световой скоростью. То там, то здесь глаз выхватывал лица, свисающие ноги, запотевшие окна. Мне вспомнился чудо-кит с деревушкой на спине. Было непонятно – то ли поезд сожрал компанию людей и уносил их в свою нору, переваривать, то ли люди, как мелкие паразиты, поселились в чреве огромной железной змеи, и она неслась вперед, еще полная сил, но уже обреченная на гибель. Свет в купе притушился, как огромная театральная люстра перед представлением, по стенкам побежали фонарные световые зайцы. Поезд выскочил на длинный кружевной железный мост, и мы воспарили над рекой – время притормозило свой ход, соблюдая баланс с застывшей за окном картиной. Казалось, что мы не мчимся куда-то вперед, а медленно поворачиваемся в своей кабинке, подвешенной к колесу обозрения. Свет выхватил на секунду лицо Михи – он едва заметно улыбался, больше глазами, чем губами.
Когда я был маленьким, у меня были выдуманные друзья. Наверное, странно в этом признаваться, спустя столько лет, тем более, что они благополучно растворились в пубертатном тумане. Я не могу припомнить ни как они выглядели, ни как они появились. Но я хорошо помню, что с ними всегда можно было поговорить, при том, что, чудесным образом, они всегда говорили на одном со мной языке и понимали все, даже самые спутанные мои размышления. Кроме того, они обладали несомненным преимуществом телепатии – с ними можно было разговаривать в кровати перед сном, в душе, в переполненном автобусе, в спортивном зале. Но особенным удовольствием было, конечно, поговорить с ними вслух, шевеля губами, пусть и на уровне театрального шепота. Иногда мне было просто необходимо поговорить с ними, и я мог запросто убежать со двора, выскочить из школьного кабинета, уйти от своих физически осязаемых товарищей, чтобы остаться с ними наедине. Что скрывать, для меня они и были самыми настоящими друзьями, если называть этим словом тех, кто эмоционально доступен тебе в любую минуту и не стремится наклеить на тебя ярлык, не дослушав и первого, совершенно скомканного еще рассказа. Слов таких я, конечно, тогда не знал, но понимал все это очень точно, как сейчас. Самые яркие, живые воспоминания с превеликим трудом облекают себя в словесную форму, зато прекрасно помнится, как ты себя чувствовал. Эти мимолетные ощущения, как ни странно, имеют срок годности какой-нибудь тушенки из стратегического запаса – хватает на пару поколений.
Повзрослев, я часто вспоминал их, наши разговоры. В какой-то момент я наконец понял, что почти никогда не слышал их голосов – все мои разговоры с ними были, по сути, монологами, хотя они вовремя поддакивали, вставляли нужные междометия, и держали себя просто образцовыми слушателями. Они были нужны мне для пережевывания сошедшего с ума потока событий вокруг меня. Мой мир был не более странным, чем мир любого ребенка. Вся наша жизнь – это пересечение внутреннего и внешнего миров. У кого-то богаче внутренний, у кого-то внешний, у кого-то они плохо пересекаются с рождения, а у кого-то – перестают пересекаться в определенный момент. Эти выдуманные друзья были немногословными проводниками меж двух миров, всегда готовые броситься на амбразуру очередного разрыва. Они кропотливо штопали разрезы, замазывали прорехи в плотине, перебрасывали легкие мостики через трещины, слушали чушь, которую я нес, и кивали головами. Кто знает, без них я мог бы и разбежаться с внешним миром насовсем. Кто знает, может быть, мы и называем этот момент смертью.
Друзья ушли, но осталась потребность к разговору. Каждый создает и украшает мир по-своему, и я, без сомнения, был демиургом словесного толка. Все мои лучшие идеи рождались в горячке беседы, в наркотическом запале слово-творения и слово-сочетания, когда мысли рвались наружу в своей истинной, обнаженной форме, едва прикрытые фиговыми листами обыденных слов. В такой момент, мне часто приходилось использовать несколько попыток, чтобы сложить понятную картинку из осколков озарения, извергнутых мною. Я катал их на