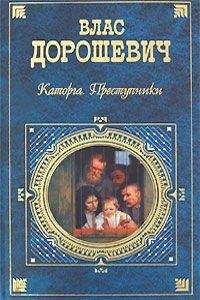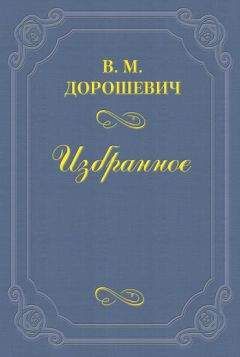Он сидел передо мной бледный как полотно, со странными глазами, глядя куда-то в угол; щеки его вздрагивали и подергивались.
Мы беседовали поздним вечером вдвоем в тюремной канцелярии. Вслед за Полуляховым и я с дрожью посмотрел в темный угол.
– Страшно было! – сказал наконец Полуляхов после долгого молчания, проводя рукой по волосам. – Мне этот мальчик и теперь снится… Никто не снится, а мальчик снится…
– Зачем же было мальчика убивать?
– Из жалости.
И лицо Полуляхова сделалось опять кротким и добрым.
– Я и об нем думал, когда по комнате ходил. Оставить или нет? «Что же, – думаю, – он жить останется, когда такое видел? Как он жить будет, когда у него на глазах мать убили?» Я и его… жаль было… Ну, да о своей голове тоже подумать надо – мальчик большой, свидетель. Тут во мне каждая жила заговорила, – продолжал Полуляхов, – такое возбуждение было, такое возбуждение – себя не помнил. Всех перебить хотел. Выскочил в срединную комнатку, поднял топор: «Теперь, – говорю, – по-настоящему мне и вас убить надоть. Чтоб никого свидетелей не было. Видите, сколько душ не из-за чего погубил. Чтобы этим и кончилось: друг друга не выдавать. Чтоб больше не из-за чего людей не погибало. Держаться друг за друга, не проговариваться». Глянул на Казеева: белее полотна, а Пирожкова стоит, как былинка качается. Жаль мне ее стало, я ее и обнял. И начал целовать. Уж очень тогда во мне каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого так не целовал.
Этот убийца, с залитым кровью лицом, обнимающий сообщницу в квартире, заваленной трупами, – это казалось бы чудовищным вымыслом, если бы не было чудовищной правдой.
– И любил я ее тогда, и жалко мне ее было, жалко…
– Ну а теперь где Пирожкова? – спросил я Полуляхова.
– А черт ее знает где! Где-то здесь же, на Сахалине!
– Она тебя не интересует?
– Ни капли.
А Пирожкова из любви к Полуляхову не захотела пойти ни к кому в сожительницы и была отправлена в дальние поселья, на голод, на нищету…
В ту же ночь Полуляхов, Пирожкова и Казеев исчезли из Луганска. Они жили по подложным паспортам. И полиции никогда бы не удалось открыть убийц, если бы в дело не вмешался пасынок Арцимовича.
Молодой человек, задавшись целью отыскать убийц матери и отчима, объехал несколько южных городов, искал везде. Переодетый, он посещал притоны, сходился с темным людом.
И вот в одном из ростовских притонов он услышал о каком-то громиле, который кутил, продавал ценные вещи, поминал что-то, пьяный, про Луганск.
По указаниям молодого человека, этого громилу арестовали.
Это был Казеев.
Казеев был потрясен, разбит страшным убийством. Он мечтал о перемене жизни. Ему хотелось бросить свое дело и поступить в сыщики.
Эта мечта бросить свое дело и сделаться сыщиком – довольно обычная у профессиональных преступников.
Их часто ловят на эту удочку.
– Ты малый способный, дельный, знаешь весь этот народ, – мы тебя в агентах оставим.
– Ровно рыба – дураки! – с презрительной улыбкой говорит Полуляхов. – Одну рыбу на крючок поймали, а другая на тот же крючок лезет.
– Как же они верят?
– Что же людям остается, как не верить? Человек заблудился в лесу, видит – выхода нет. Тут человек каждому встречному доверяется. Может, тот его в чащу завести хочет и убить, а он идет за ним. Потому все одно выхода нет.
Заблудившись в преступлениях, Казеев поверил, что его помилуют и оставят в сыщиках, и выдал Полуляхова и Пирожкову, указал, как их найти, будучи совершенно уверен, что их «за убийство судьи беспременно повесят».
«Товарищ» среди преступников на воле и в каторге – это, как они говорят, «великое слово». Выдать или убить товарища – это величайшее преступление, которое только может быть. За это смерть.
И вот Полуляхова и Казеева посадили в одну камеру и заперли.
– Ну, что ж, Ваня, теперь мы с тобой делать будем? – спросил его Полуляхов.
Казеев молчал.
– Только колотило его всего. Сидим – молчим. Я на него во все глаза смотрю – он в угол глядит. Принесли обед – не притронулся. Ужин в шесть подали – не притронулся. Ночь пришла. Я лег, лежу не сплю. А он сидит. Измученный, только-только не падает, а спать лечь боится. Уснет – и убью. Жалко мне на него смотреть стало, жалость взяла. Закрыл я глаза, притворился, что заснул, захрапел. Я никогда во сне не храплю и не люблю, когда другие храпят, – противен мне тогда человек. А тут будто захрапел, чтоб он успокоился. Слышу – ложится и, словно топор в воду, заснул. Проснулся я утром раньше его, посмотрел – ровно младенец спит. Толкнул я его: «Вставай, Ваня». Вскочил, смотрит на меня, глаза вытаращил, удивленно так. Кругом оглядывается. Я даже засмеялся. «Жив! жив! – говорю. – Вот что, Ваня. Глупость сделали, не будем говорить: теперь нам надо не о прошлом, а о будущем думать. Что бы ни было, чтоб все вместе. Были товарищами, и будем товарищами. Понял?» Заплакал он даже.
– Так я и в каторгу попал. Убил бы их тогда в доме господ Арцимовичей, и ничего бы и не было! – вздохнул Полуляхов. – Да жалость меня тогда взяла. За это и в каторге.
Суд над убийцами Арцимовичей производил ужасное впечатление. Полуляхов держал себя с беспримерным цинизмом; рассказывая об убийстве, он прямо издевался над своими жертвами, хвастался своим спокойствием и хладнокровием.
– Зло меня брало. Повесите? Так нате ж вам!
Полуляхов все время ждал смертного приговора.
– Как встали все, начали читать приговор, у меня голова ходуном пошла. Головой даже так дернул, будто веревка у меня перед лицом болтается. Однако думаю: «Подержись теперь, брат Полуляхов. Уходить с этого света, так уходить!» И сам улыбнуться стараюсь.
Когда прочли «в каторжные работы», Полуляхов «даже ушам своим не поверил».
– Гляжу кругом, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю?
Из суда вышел, словно с петли сорвался. От воздуха даже голова было закружилась и тошно сделалось.
Когда преступников среди толпы вели из суда, вдруг раздался выстрел. Пасынок Арцимовича выскочил из толпы и почти в упор выстрелил в Полуляхова из револьвера.
– А я-то в эту минуту в толпу кинулся!
Пуля пролетела мимо.
– Такой уж фарт (счастье)! – улыбаясь, замечает Полуляхов.
Стрелявшего схватили, а Полуляхов, как только его привели в острог, сейчас же потребовал смотрителя и заявил, чтоб пасынка Арцимовича освободили:
– Потому что я на него никакой претензии не имею.
– Почему ж такая забота о нем? Благородство, что ли, хотел доказать?
– Какое же тут благородство? – пожал плечами Полуляхов. – Я его мать убил, а он меня хотел. На его месте и я бы так сделал.
Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалин, их держали порознь. Все арестанты говорили:
– Полуляхов беспременно пришьет Казеева.
Но это было лишней предосторожностью. Они снова были товарищами.
– На Ваню у меня никакой злобы не было. Вместе делали, вместе в беду попали, вместе надо было и уходить.
Их посадили в один и тот же номер Александровской кандальной тюрьмы, и товарищи взяли себе рядом места на нарах.
– Ваня от меня ни на шаг. Каждый кусок пополам.
Эта потребность иметь кого-нибудь близкого с невероятной силой просыпается в озлобленных на все и на вся каторжанах. Только в институтах так обожают друг друга, как в кандальных тюрьмах. Доходит до смешного и до трогательного. В бегах, в тайге, полуумирающий с голоду каторжник половину последнего куска хлеба отдает товарищу. Сам идет и сдается, чтобы только подобрали раненого или заболевшего товарища. Целыми днями несет обессилевшего товарища на руках. У самого едва душа в теле держится, а товарища на руках тащит. Пройдет несколько шагов, задохнется, присядет, – опять берет на руки и несет. И так сотни верст, и так через непроходимую дикую тайгу.
«Убийца пяти человек» – это ровно ничего не значит для каторги:
– Там-то мы все храбры. Ты вот здесь себя покажи.
Убийства, совершенные на воле, в каторге не идут в счет.
Каторгу не удивишь, сказав: «убил столько-то человек». Каторга при этом только спрашивает:
– А сколько взял?
И, если человек «взял» мало, каторга смеется над таким человеком, как смеется она над убийцей из ревности, из мести, вообще, над дураками.
– Оглобля! Без интересу на преступленье пошел.
Для каторги «знаменитых» убийц нет. Тут не похвастаешься убийством 5 человек, когда рядом на нарах лежит Пащенко, за которым официально числится 32 убийства!
Положение Полуляхова, которым ужасались на суде, в каторжной тюрьме было самое шаткое.
– Пять человек убил, а сколько взял, стыдно сказать!
Его выручало несколько только то, что он, судью, «такого человека» убил.
– Значит, на веревку шел!
Это вселяло все-таки некоторое уважение: каторга уважает тех, кто так рискует, и боится только тех, кто сам ничего не боится.
Когда я был на Сахалине, Полуляхов пользовался величайшим уважением в тюрьме. О совершенном им побеге говорили с величайшим почтением.