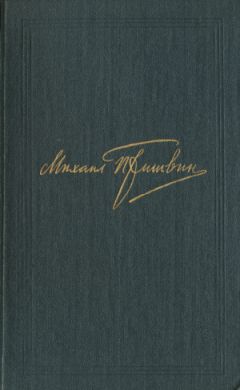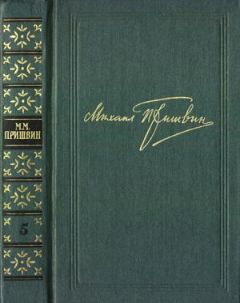Деревенская фотография
(Запись 1942 г)
Рожь опять цветет. Но с утра до ночи в Конякине слышна стрельба, и мы копаем противотанковые рвы и подготовляемся, чтобы по первому сигналу бросать все и переходить на партизанское положение.
Наши девушки все заняты на торфяных работах и, когда узнали, что я занимаюсь и фотографией, стали ходить ко мне сниматься и посылать на фронт карточки своим друзьям и родным. За мою работу приносят мне молоко, лепешки, и я этим кормлюсь.
Пришел ко мне сниматься наш бывший лесник, теперь солдат. Он пришел со всем своим семейством: жена и много детей, один другого меньше, как грибы. Пришел с войны на побывку. Я же в это утро успел побывать в лесу, принес только один конякинский царь-гриб и положил его на лавку. Солдат как увидел тот гриб, так взял его прямо в руку, перебросил с руки на руку и спросил:
– Конякинский?
Не было в том ничего удивительного, что он знал, где растут такие грибы: только в Конякине были такие грибы, а он уже много лет был лесником в самом Конякине.
И вдруг что-то случилось с лесником: неподвижными глазами он уставился на гриб, глядел, глядел, лицо его стало перекашиваться больше, больше, и вдруг этот сильный с виду мужчина в цветущих годах, с ясными детскими глазами заплакал, как ребенок.
– Что это ты, дружок? – спросил я.
– Ничего, – ответил он, по-детски улыбаясь мне сквозь слезы, – я это на гриб смотрю, – не вернуться мне больше в Конякино, не видать мне в жизни больше такого гриба.
Женщина улыбнулась мужу, совершенно как мать улыбается ребенку своему, огладила его рукой по голове со лба на затылок и сказала мне, как бы извиняясь:
– Конечно, выпил немного – не о нас плачет, а о грибах.
Солдат уже успел оправиться и ответил:
– Вот еще – о вас плакать: вы сами плакать умеете, а гриб – тот бессловесный.
Женщина была лицом белая и в красном платочке, и возле нее были мальчики, как гуськи с вытянутыми шейками, и девочки, одна уже порядочная, тоже, как мать, в красном платочке.
Мне напомнила эта женщина ту сыроежку, как она, белая в красном платочке, вылезает из-под земли и поднимает над собою целый свод моховой с ягодами, и с нею выходит целое семейство маленьких, и на свету все маленькие тоже надевают платочки.
В наших глухих местах торфяных болот весь успех деревенской фотографии состоит в том, чтобы мастер считался больше со вкусами заказчика и хорошо понимал деревенского человека. Но, конечно, и такому мастеру необходимо иметь в виду, кроме натуры, и какую-то свою модель.
Устанавливая в позу лесника, я вспомнил одного солдата в метро в тот момент, когда он, очевидно в первый раз в жизни, хотел поставить ногу на подвижную ступеньку эскалатора. Чем-то это ему показалось неловко ставить ногу, как все. Выждав, когда мало будет народу, он устроился, как на ученье, и как прыгнет сразу на пятую ступеньку!
Вот я и солдата своего решил снять так, будто натуживается лихо прыгнуть на картину с широко открытыми глазами и с остатками слез на веселом лице. А для женщины я держал в уме свою сыроежку с маленькими грибками и со сводом земли на голове.
Через пятнадцать минут фотография была готова: я своим особенным скорым способом пропустил через оконный щит луч света в увеличитель на позитивную пленку, промыл изображение и прямо сырое наклеил на картон.
Успех моей работы определился блеском позитивной пленки на белом картоне и тем, что все до одного были вместе, и еще главное, – стыдно сказать, – что взрослые были на себя не похожи и тем самым на картоне казались лучше себя в жизни.
Солдат стал упрашивать меня сделать ему на память отдельно портрет его жены.
Мы жили во флигеле дома лесничества, и тут, обставляя свою временную квартиру, в поисках мебели, в сарае я нашел замечательное старинное кресло и его ремонтировал. В это вольтеровское кресло я усадил свою Сыроежку и стал все устраивать так, чтобы сделать ее прекрасной и на себя не похожей.
Широкое лицо Сыроежки было замечательно тем, что во всех деталях своих оно было некрасиво, но временами на один момент вспыхивал в лице этом какой-то огонек, и лицо становилось лучше красивого. Для себя бы я, конечно, стал делать опытные снимки в поисках счастливого момента, объединяющего глубокой мыслью все части лица и делающего это лицо прекрасным. Но я тоже хорошо знал, что такой мой портрет заказчикам моим может не понравиться, и я должен делать портрет, как надо им.
Лицо Сыроежки я смягчил пудрой. Сделать глаза большими мне ничего не стоило, и над глазами я вывел брови, как два птичьих крыла. Мы нашли у себя бабушкин газовый шарф, накрыли им голову, ткань с головы спускалась на бюст, и под газом обыкновенный простенький ситец становился таинственным.
Вот, говорят, что успех «окрыляет» художника, и как это верно, и я не стыжусь сейчас сознаться, что успех, даже и такой, сколько-то и меня окрылил.
Увидав себя в образе блестящей красавицы в вольтеровском кресле, Сыроежка удержала портрет у себя и мужу его не дала. Лесник, видимо человек добрый, согласился с этим без спора и так сказал:
– Правда, у тебя портрет будет сохранней, береги: такой ты никогда не была и не будешь.
Он это говорил без всякой насмешки. Я же, окрыленный успехом, почел своим радостным долгом сделать портрет жены и для воина.
Когда же я вернулся из темной комнаты с другим портретом, моя Сыроежка лежала в слезах, запрокинувшись в кресле, с портретом на коленях. Муж и дети смотрели серьезно на маму и по-своему понимали ее.
Бывают дни такого горя общего, когда все понимают друг друга. Так тоже и я понял Сыроежку. Эта женщина при виде прекрасного поняла, что не быть ничему такому, что это прекрасное – ложь, и от этой лжи еще тяжелее становится неминучее.
Предчувствие неминучего не обмануло женщину: через несколько месяцев пришла похоронная – лесник был убит.
(Запись 1947 г)
Рожь опять после войны выросла и зацвела. Но в Коня-кино люди до сих пор боятся ходить за грибами: говорят, будто там можно нарваться на мину. Кого из местных людей ни спросишь, с кем ни посоветуешься, и все до одного на этот вопрос: «Не нарваться бы?» – отвечают: «И очень просто».
После моего бедного житья в Конякине во время войны я приезжал сюда просто на охоту, и недобрые вести о мине меня остановить не могли. Я решил, что с палочкой, осторожно ощупывая подозрительные предметы, охотнику можно рискнуть.
Видал я в прошлую войну тяжелые картины, приходилось с артиллерией скакать, пересекая высоты, покрытые трупами, и не очень-то с ними стесняясь. Но при всей ясности картины не возникало в разгаре боя тех гнетущих настроений, как было в Конякине в мирный день.
Простая могила с крестом или со звездою ничего больше о себе не говорит: могила и только могила. Но что подумать о провалившейся земле на ровном месте в лесу? Как могли вырасти на дне этой ямы елочки частым бобриком? Елка же любит хорошую землю, но откуда же взяться хорошей земле в глубине? Если выросли елки, то что могло так удобрить землю? Таких сомнительных могил было довольно.
Не расстаешься с этим чувством истории в природе, даже и когда, завидев макушку царя грибов, запускаешь руку в холодный сырой мох и там нащупываешь ногу гриба не тоньше руки человека.
Из травы глянул на меня шлем с дырочкой в темени. В яме, заросшей раковыми шейками, оказался кузов военного грузовика. Сквозь стебли частых раковых шеек я заметил в кузове молодую ворону. Всякий настоящий охотник до старости остается мальчишкой в отношении птиц и зверей: до смерти хочется все живое погнать, если оно не движется, и поймать, если оно бежит и летит.
Я раздвинул цветы, думая – ворона заметит меня и улетит. Но молодая ворона не двигалась. Я махнул палкой и шикнул, чтобы она вылетела из кузова. Но ворона совершенно спокойно сидела, как барыня в хорошем купе, и глядела на меня из окна, как на пейзаж.
В двух шагах от кузова лежал еще один простреленный шлем, и его странное положение сразу обратило на себя мое внимание: мне показалось, будто шлем как-то неестественно, почти криво приподнят чем-то изнутри.
Не может же быть так, чтобы в земле под шлемом осталась голова?
Конечно, не я это думал, но так оно само думалось. Мне же подумалось самому так, что острым металлическим концом моей палочки можно вдеть в дырочку шлема и отшвырнуть его.
И вот только чуть-чуть я коснулся палочкой шлема, он откачнулся от нее, как живой, как будто в нем было что-то живое или стальная пружина.
И опять, конечно, я это не сам отпрыгнул назад шага на два прямо к той молодой вороне.
Оставалось удрать потихоньку, не оглядываясь, от живой головы, как некоторые делают в таких случаях, и потом всю жизнь рассказывать, когда начинается разговор о мертвецах.