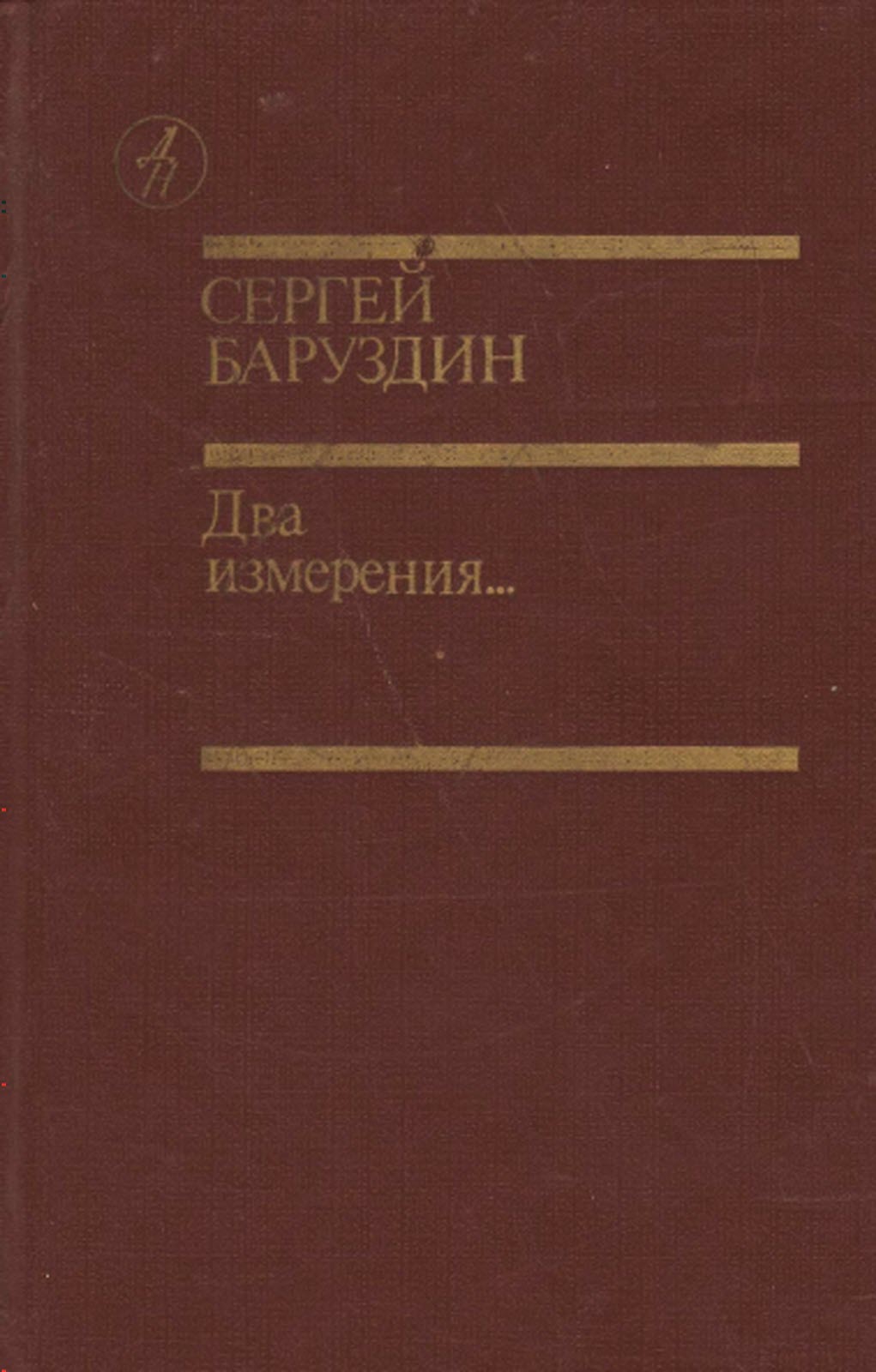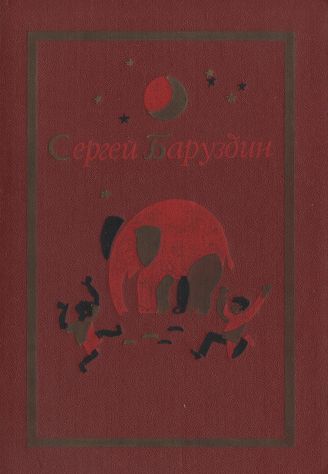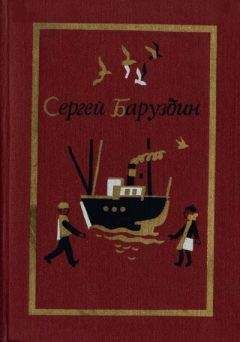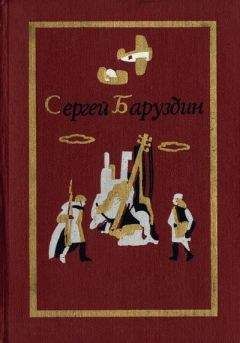и унтер-офицерское училище. Говорили, что немцы оставили город на власовцев.
Мы, не успев сменить карабины на автоматы, двинулись к городу. По нему уже била наша артиллерия. Котбус горел.
От Грос-Мессау до Котбуса километров десять, которые мы преодолели за полтора часа.
Когда мы оказались на улицах города, там шли бои. Наши вытряхивали из развалин и подвалов немцев и власовцев.
Власовская форма отличалась от немецкой и внешне, и специальным знаком РОА — Русская освободительная армия.
В моем карабине оставался последний патрон, и я только подумал, чтоб перезарядить карабин, когда в предвечерней мгле и вспышках пожара из-за какой-то подворотни на меня выскочил очумелый власовец. Не успел я вскинуть карабин, как он выпустил в меня автоматную очередь. Правую руку обожгло, и я чуть не выронил карабин. А власовец вдруг остановился, тупо посмотрел на меня и, бросив к ногам автомат, поднял руки.
— Братец, — пробормотал он, — не стреляй, братец!
— Сволочь ты, а не братец, — я нажал спусковой крючок.
Он вскинул руки и грохнулся затылком наземь.
Я мельком взглянул на него и пошел искать медицину. Индивидуального пакета у меня не оказалось, весь рукав уже был в крови.
Так двадцать первого апреля и кончилась для меня война. Лежал я в знакомом медсанбате, и вокруг меня хлопотала Валя, а медсанбат медленно продвигался вперед, вслед за наступающими частями.
Я лежал и вспоминал всех немцев, которых знал живыми и мертвыми. Их было не так уж много за четыре года войны — семь. Но лица их я хорошо помнил. Помнил и упущенного Ганса, на которого у меня уже давно не было злости. Наоборот: «ловкий мужик, перехитрил меня», — думал я. И только физиономии власовца никак не мог вспомнить, хотя была она вроде колоритная. Никак не вспоминалась.
Почему-то все люди ждут весны. Будто с ней наконец придет то, чего ты всю жизнь ждал-ожидал, и она, весна, как лотерейный билет, принесет тебе не рублевый, а самый главный, несбыточный выигрыш.
Вот и этот больной:
— А там уже весна на улице, да? — спрашивает.
— Да, да, — говорит Саша, утешая его, хотя и не совсем понимает, что с ним. Ну, вырезали аппендикс, обычная операция. И какая погода на улице, он не хуже ее знает: больного привезли часа два назад, а она не выходила на улицу с утра. — Скоро и почки лопнут, и птицы запоют…
Так говорит она, потому что он — больной и вообще, как ей кажется, симпатичный человек.
А сама Саша любит все времена года. И зиму, и весну, и лето, и осень. И, может, дождливую осеннюю погоду — особенно, но не холодную, а теплую. В дождь хорошо думается.
Саша поправила одеяло на оперированном и сказала:
— Отдыхайте! У вас все хорошо. Отдыхайте.
— Спасибо, — сказал он и тронул Сашу за рукав халата. — А звать-то вас как?
— Саша, — сказала она.
— Александра, значит, а по отчеству?
— Да что вы! Так просто, Саша.
Она вернулась в ординаторскую, где уже переодевалась Лена Михайлова, и тут у них начался разговор.
Начался с врачей и с белья, которое не успевают стирать. А потом…
— Ты зачем в медицину пошла, ты понимаешь?
— Не знаю, — сказала Саша. Когда на нее наступали, она всегда терялась и не знала, что сказать, — У меня мама…
— Мама, папа, это же наивно! Пойми, мы ж — медики, а медики всегда немного циники, Подумаешь, ну почище белье, погрязнее. Разве это — главное? Мне бы твои заботы. Может, ты еще и грозу прошлогоднюю вспомнишь, что наш дом чуть не спалила? Ох, и глупая же ты, Сашка! Прошлогоднего снега ищешь! Не сердись, глупая, хотя и взносы принимаешь!..
Наверное, неумная!
Лена беспокоит ее. Двадцать лет всего, а уже такая — ни во что не верит, ничего не слышит, все сама понимает. Может, и понимает. Лена другая, на Сашу непохожая, и жизнь у нее не такая, как у Саши. Но двадцать лет — это не двадцать пять, хотя, по правде сказать, и двадцать пять не кажутся Саше старостью.
Наверное, глупая она! Права Лена.
Можно, конечно, было ответить Лене Михайловой. И надо было, как Саша поняла уже потом, ночью, обдумывая снова весь этот разговор. Сначала про грозу. Да, гроза была, страшная гроза, но ведь ни у кого в городе она не спалила дома. И у Лены не спалила. Так что тут и говорить нечего. А если бы и спалила, то дом у Михайловых застрахован на любой случай. И на случай грозы — тоже. И все равно они новый дом рядом строят, каменный. Вернее, из шлакоблоков. Но и не в доме вовсе дело, а в грозе. Все лето почти страшная засуха была. Не только что в полях, а на своих малых грядках все завяло. Огурцы пропали, помидоры, морковка с луком — и те чахли. А тут, после этой грозы, погода установилась. Дожди пошли, такие нужные дожди, и жара спала. А про снег… Конечно, ее, Лену Михайлову, этот снег не волнует. А вот Вячеслава Алексеевича он занимает. Когда она еще в начале зимы выскочила на улицу с ведром — санитарки не было, — то столкнулась с хирургом на крыльце.
— Ох, Вячеслав Алексеевич! Отдыхаете?
— Думаю, думаю!
— О чем — не секрет?
— Вот снег идет — о жизни думаю. Речку мы, дураки, загрязнили, а снега весной хлынут в нее и станут чистить, промывать… Вот так… А вы что?
— Я ничего…
— Вы о генах слышали? Да, впрочем, что это я?..
— Вы же сами нам рассказывали!
— Знаю, знаю… Бегите, бегите, а то я задержал вас дурацкими разговорами…
Саша не спала всю ночь. Не из-за Лены и обидных ее слов, нет. О Мите думала. Ну, и о Лене Михайловой, конечно. И, пожалуй, главное — все же о ней.
Лена — замкнутая, как говорят, сама в себе, А Саша — наоборот. Замкнутым, наверное, лучше. Никто ничего не понимает в тебе, и ты кажешься умнее других.
А у Саши все на лице и на языке. Только потом она будет учиться, если что-то не так вышло. И только с Митей она стала замкнутой, но он не видит этого, не понимает. Он тоже — сам в себе.
Замкнутым хорошо, и все же…
И в самом деле, ну почему она, Лена Михайлова, не думает? Должна думать! Вячеслав Алексеевич думает. Многие думают и говорят. И о дожде,