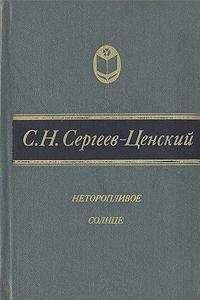— Когда куры нестись начнут, — подумав о чем-то, сказала Маша.
И Ознобишин изумленно вслушался, как просто и серьезно она сказала это, так же, как говорила бы Анна.
Рядом с ним она сидела полная смутных, новых для нее мыслей. Они входили в нее с облизанных вьюгой сугробов, входили туда, где недавно еще рождался и беспричинно звенел золотистый смех, и они проворно занимали его место.
Показалось Ознобишину вдруг, что, если нечаянно пристально оглядеть поля, он увидит там Анну такою, как тогда, мутно блеснет щелями полуглаз и ищуще раскинет руки по всем снегам.
Боялся глядеть в поля, но Маша сказала:
— Когда приедем, привезем Анне памятник на могилу… Такой, чтобы летел ангел, а в руках у него ребеночек смеялся… Хорошо?
И Ознобишин понял, что уже не увидит Анну в полях, потому что она — рядом. От этого тесно стало ему, как было тесно деду.
Вот по таким же сугробистым немым просторам где-то кружил теперь дед — один, до бесприютности вольный, седой, как зима, поленица удалая. Меряет, насколько глубока жизнь; нашел ли такое место, где она всего глубже? И сколько лет еще отпущено ему, чтобы искать и ничего не найти?
Но позавидовал деду Ознобишин: ездит и ищет, верит в то, что уйдет от пустоты и простора — уйти нельзя, но легко жить, если верить, поэтому и живет так долго дед.
Холод звезд безостановочно лился вниз. Это и не звезды были: прямо за иссиня-темным небом, проколотым в тысячах мест, таился огромный, чистый, всемирный холод, и только миллионная доля его сочилась вниз на поля, но и от нее застывала мысль и безразлично начинало стучать сердце.
На перекрестке дорог, там, где откинулся влево зимний путь в Большую Дехтянку, как расплывчатое пятно, как сгусток ночи, встретился Никита, — существо могучее, темное, пашущее, сеющее, собирающее урожаи — плодотворец полей.
Ехал он из города, лежал ничком в санях на соломе и негромко пел:
Э-э-э-э да э-э-э-ы-ых…
Э-э-э-их да а-а-а…
Даже старому Серапиону жутко стало от этого непонятною воя в пустых полях. Крякнул он, кашлянул и выдавил вслед Никите:
— Одна была у волка песня, и ту перенял.
Но поля понимали Никиту, и Никита понимал поля.
Вот уже утонул он в них со своей конягой и песней, и опять стало пусто.
В бубенчиках глухо билось запертое.
На изломах дороги дымно поблескивали шапки сугробов, укутанных в синие зипуны, и вешки торчали над ними, как скучные метлы.
Лошади, фыркая, нагнув головы и вытягиваясь одна за другой, упорно разматывали ногами клубок дороги, а поля подхватывали и бросали его все дальше, дальше.
— На постоялом, в Загрядчине будем чай пить… — сказала Маша. — Хорошо, что взяли свой хлеб, а то там дали бы черствый и какой-нибудь грязный, да?
Ознобишин вздрогнул от этой маленькой, земной, такой знакомой заботы и торопливо ответил:
— Да, Анна.
1909 г.
Поэма
И здесь, где плескалось море внизу, а вверху сзади стояли горы, где кипарисы купались в голубом зное и розовые тропинки вились по сожженным соломенно-желтым скатам, — и здесь, как везде, каменщики пили больше, чем плотники, кузнецы больше, чем каменщики, слесаря больше, чем кузнецы, больше же всех пили печники и штукатуры.
Бог знает, может быть, в извести и глине, в белой и желтой земле, заложено какое-нибудь неизвестное пьяное бродило, и от одного вида их неудержимо тянет простого, близкого земле человека к вину — только найти трезвого печника было невозможно.
Шесть раз ходил в городок с дачи Пикулина дворник Назар — нужно было поправить плиту на кухне, — печники пили. И когда попался, наконец, рано утром хромой Федор, неизвестно где и как проведший ночь, но теперь почти свежий и способный к работе, Назар неотступно стоял перед ним, пока не убедил пойти на дачу.
— Да ведь в гору! — думал увильнуть Федор.
— Ну что ж? Далеко?.. Ах ты ж, господи!.. Я, когда работал, обыденкой за десять верст ходил.
— Нога у меня!.. Видишь, нога хромая.
— Ну что ж, нога! Я раз ногу-то в кровь растер, а за сколько верст ходил! Не пойдешь — не поешь… Вон сторожка в лесу, видишь? Семнадцать верст ходу, а по черной работе и там бывал.
— Бывал — бывал… Везде он бывал… А я и в Ерусалиме бывал, пуп земли видал и прикладывался.
Федор — бородатый, рыжий, нос огромный, вверху костяной, внизу сизый; глаза — серые щелки; картуз внахлобучку, без полей, задряпанный, вытертый; волосы старые, дьячковские; фартук — из грязи, сала, холстины, глины, извести и смолы; штаны — сорока цветов. Говорит басом: шея с огромным кадыком, — должно быть, смолоду хорошо пел и теперь поет, когда сильно пьян. Голову любит подбрасывать бодро, и когда говорит, то сразу всем телом: и глазами, и шеей, и длинным носом, и бородою, и даже хромой ногой. А Назар — молодой еще, но какой-то весь свалявшийся, залежалый, как сухой веник: хочется подержать его в кипятке, распарить. Скулы у него торчат, усы белесые, еле видные, бороды нет — не растет; бровями все время озабоченно думает.
Городок весь каменный и черепичный, — совсем маленький: одна церковь, две мечети. На раскаленной набережной, забранной от моря бетонной стеной, сгрудились мелкие лавчонки.
— Хочешь воды зельтельской? — спрашивает сурово Федор Назара. — Ежели хочешь, на, пей. — И сам цедит в стакан из сифона и бросает на прилавок две копейки. Старый лавочник Мустафа сидит, смотрит, курит трубку; зачем подыматься ему, когда и без него все найдут! Самое трудное у него — отрезать халвы сколько надо; но многие и это делают хорошо.
Медленно проходит мимо страшно тучная дама, вся в белом и под белым зонтиком с кружевом. От зонтика на серой мостовой синеватая тень с маленьким золотым зайчиком в середине: должно быть, зонтик дырявый. Остановился чей-то сильный рыжий сеттер над самой бетонной стеной, четко врезался в синеву моря и задумчиво смотрит, а в море белые чайки, точно их припаяло к воде, качаются вместе с рябью, а дальше — идут не идут возле самого горизонта два, три, четыре баркаса-парусника и совсем выпадает — еле держит глаз — пароход.
На перевал к даче идти тяжело. Тропинка взбирается на него хитрыми изворотами по сыпучему шиферу, и снизу вид у нее, как у балованной гончей на охоте.
— Как это — не понимаю я этих людей! — ворчит Федор. — Что теперь, зима? Непременно тебе плиту? На дворе готовить не можешь? Эх, народ нежный!
И несколько раз садится он отдыхать и потирает с большой любовью отвердевшее колено.
— Ведь это я ее как? — говорит Назару. — Я ее простым манером сломал: с лестницы спускался — вот от базара сейчас к речке лестница вниз — был немного тово, а дожжик шел, и ступеньки… они, стало быть, камень, склизкие, — упал, и, значит, самый хрящик в коленке хрясь — пополам!.. Сказал доктор в нашей больнице: серебряными нитками сшивать. Ну, таким манером тут они только не могут, а надо в настоящую ехать, в губернскую, там зашьют. Там бы зашили, а? Там бы это — пус-стяк! А только туда ехать — мелочи нет.
— Пьянство нашего брата губит. Это все равно — чистый яд.
— Говорю тебе: лестница каменная, склизкая и дожжик шел… Пьянство! Что ж я до этого так никогда и не пил? Обдумай умом.
На перевале, откуда до дачи Пикулина двести — триста шагов, Назар вспоминает вдруг, что ведет Федора так, как поймал на улице, — с голыми руками. Хорошо, конечно, и так, но лучше бы с печным снарядом.
Назар серчает.
— У тебя голова есть?.. Есть или нет ее вовсе, головы?
— Есть. У меня все есть, я вот только на ногу спорчен, а то я, брат, еще иному старику та-ак могу показать…
— А понятия в тебе нет, в голове!.. Что ж ты пошел, а струменту не взял?
— А у нас какой струмент? Молоток, гельм да сокол — и весь струмент. Милой! Долго его взять, скажи, ежель очень умный? Сходить только надо, — ну, конечно, мне от моей хромоты…
— Схо-дить! Ты когда пришел, — сиди. Он, струмент, у тебя где? На квартере?
— Зачем? На квартере — там ничего нет. Где работал, стало быть, там. Вот у Николая Иваныча беседки белил…
— Ты уж сиди, ты скажи только где, — схожу сам. Эх, народ!
— Куда ж ты сходишь, когда его найти надо, что к чему? Он ведь у меня не в одном месте, струмент.
— Шут хромой! У Николая Иваныча — сказал?
— Там я действительно беседки белил — там, значит, кисть с ведеркой, гельма нет. А гельм, это лопаточка наша называемая, гельм с соколом — почитай что он у Курт-Али в саду. Сокол, он, положим, без надобности, только полутерок взять да вот еще грохот, глину сеять.
— Значит, его у Курт-Али взять?
— У Курт-Али зачем? Там грохота нет. Грохот, он… кажись, я его у докторши оставил… Вот у этой, как ее, черт?.. Зубная она, в очках ходит… Вот она еще околь этого… грек такой черный, печку я там поправлял. Да сбоку на базаре, как снизка от аптеки иттить, — третья лавка… Третья или она — четвертая…