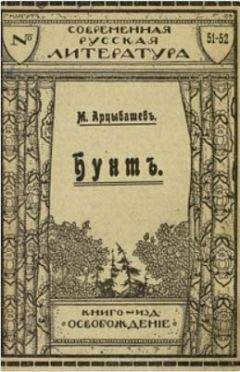— Полегче, полегче-с… потише, Авдотья Степановна! Помилуйте-с… здесь не полагается!— насмешливым говорком произносил он, отступая к двери.
— Изверг!
— Что? Что у вас такое? Это что за безобразие? Полынова! Как вы… молчать!..— кидаясь к ним, закричала надзирательница.
— Не могу я молчать!— отчаянно завопила Полынова.— Он… он меня погубил, проклятый! Он мне сам говорил: «брось эту жизнь, я тебя обзаконю,..» деньги взял!
— Какие деньги?— вскинулась надзирательница.
Вокруг стеснилась толпа, многие даже на стулья повставали, чтобы лучше видеть.
Мещанин в сюртуке немного смутился, нос у него закраснел, а глаза забегали низом.
— Это так можно все говорить!— пробормотал он, оглядываясь кругом исподлобья.
— Какие деньги?.. Мои!.. Кровные триста рублев! Как одна копеечка… — хлипающим голосом и все нелепо шевеля пальцами перед лицом мещанина, точно желая вцепиться ему в бороду, которая была скверно выбрита, вопила Полынова.
— Он взял у вас триста рублей? Когда?
В толпе послышались и смеющиеся и негодующие голоса.
— Он, проклятый… жениться обещал… с тем и деньги взял! Ты, говорит, в исправительное, чтобы скверну… скверну очистить… а я на эти деньги торговлю… а опосля… Обманул!— вдруг пронзительно закричала Полынова и как-то сразу, всплеснув руками, как мешок, осела на пол к ногам обступивших людей.
— Ай, батюшки!
— Вот так история!
— Ты это что же, голубчик!— беря мещанина почти за ворот черного сюртука, с сердитой веселостью спросил полный, хорошо одетый, с пушистой, светлой бородой господин, тот самый, который пришел к Ивановой.
Мещанин злобно оглянулся и вывернулся движением скользких тонких лопаток.
— Вы не хватайтесь!— угрожающе пробормотал он.— Я за их поклепы не ответствен… Жениться я, может, и точно хотел… Это что говорить… Потому как питал я такое чувство… А… все, значит, смеются: ты на такой женишься!.. тоже при своем самолюбии… Нам тоже нежелательно!..
Полынова, сидевшая на полу с тупым и ошалевшим взглядом, вдруг сорвалась и изо всей силы вцепилась в полу его сюртука, но мещанин ловко отскочил, и Полынова звонко шлепнула худыми ладонями по гладко крашенному полу.
— Прокл…— прохрипела она, стоя на четвереньках.
— Да деньги-то ты взял?— настаивал господин с бородой.
Но мещанин вдруг нахохлился.
— А вам что?— вызывающе ухмыльнулся он. — Вы видели? А не видели, так и соваться нечего!.. Да если бы и отдали они свой капитал кому, так в том их добрая воля… Как любимши, я им, может, больше, чем на триста рублев, денег переносил…
— Врешь, врешь, подлец!— захрипела, теряя голос, Полынова.— Сам с меня тянул… проклятый!..
Вдруг она замолчала, стиснула зубы и уставилась на всех таким странным, наивно-удивленным взглядом, что от нее отшатнулись, и даже мещанин опасливо замолчал…
— Чего ты?— спросила Иванова наклоняясь.
Зубы Полыновой стучали, она судорожно разводила руками по полу и вдруг ухватилась за живот и закричала тоненьким пронзительным голосом.
— Да она рожает!— крикнул кто-то и совершенно глупо захихикал.
Сразу все заговорили и задвигались. Послышались советы, сожаления, и кто-то побежал зачем-то за водой. Господин с бородой хотел опять захватить за шиворот мещанина, но тот плюнул, надел шапку тут же в комнате и с обиженным видом пошел вон.
— Это уж Бог, знает что такое!— возмущенно бормотал он.
Подымавшийся снизу по лестнице дворник тупо посмотрел ему в спину.
К вечеру, когда все мало-помалу успокоилось, когда зажгли огонь и все разошлись по своим комнатам, Саша сидела на своей кровати с хорошенькой Ивановой. Сюртукова опять, хоть и не полагалось спать раньше времени, тихо похрапывала, опершись головой на столик. Рябая неподвижно сидела спиной к Саше, но по ее спине Саша и Иванова чувствовали, что она их слушает. Кох в дальнем углу шила что-то у свечки. Было тихо.
— Мы в этой палате, — говорила Иванова, смеясь одними глазами,— все «новенькие», которые еще к делу не пристроены, а то у них тут скоро… Даром кормить не будут…
— А вы как сюда, душенька, попали?— робко спрашивала Саша и сама удивлялась, какая она тут стала тихая и ласковая.
— Да так,— весело засмеялась Иванова, встряхивая волосами:— надоело по улицам шляться… устала… Поживу тут, отдохну… Как к работе приставят, уйду.
— Куда?— еще робче спросила Саша.
Ей было странно и даже неприятно слышать, что и отсюда уходят.
— Да куда… Туда, откуда и пришла! — звонко и нисколько не смущаясь, ответила Иванова.
Саша смотрела на нее с недоумением.
— Чего ж вы удивляетесь? Неужто ж мне и вправду здесь исправляться? — делая комически большие глаза, спросила Иванова.
— А зачем же вы и пришли, как не для того.
— Да уж не за исправлением!.. Бог с ними, что у них святости отбирать… Самим им она очень пригодится… Вас кто принял?
— Дама… красивая такая… брюнетка… не знаю…
— Фон-Краузе, — глухо отозвалась рябая, не поворачивая спины.
— То-то и есть,— засмеялась Иванова, как показалось Саше, даже радостно:— у этой Краузе любовников не оберешься… а тоже… исправляет… Ну их к черту!.. Все они один другого грешней, коли правда, что есть грех на свете!..
— Ну-у…— недоверчиво протянула Саша, но ей приятно было слышать и охотно верилось этому.
— Вот и ну!.. С ихними же мужьями мы гуляем, пока они нас спасают! У этой Лидки Краузе, что ни туалет, то и тысяча, а для спасения… Ради мужчинок же одеваются да оголяются, а что денег за это не берут, так только потому, что свои есть! Спасают!.. Было бы от чего!..
— Да как же, — застенчиво пожала плечами Саша.
— Что, как же?.. Лучше бы от голода да от тоски спасали, когда я в магазине платья шила, целый-то день спины не разгибая… за четыре рубля в месяц! — со странным для ее мягкого красивого личика озлоблением говорила Иванова.
— Я тоже в магазине была прежде,— с тяжелым вздохом проговорила Саша.
Иванова помолчала.
— Исправляться… было бы хоть для чего,— заговорила она, глядя в сторону:— ну, вот я исправлюсь… ну… а дальше что?
— Честная будете, — с убеждением проговорила Саша.
Иванова с веселым озлоблением всплеснула руками.
— Эк, радость!.. Да я тогда и была честная, когда голодала… Так от честности я и на улицу пошла!.. Потому всякому человеку жить хочется, а не… Что ж, я скажу, правда— и на улице не мед, я и не радовалась, когда на улицу пошла… А все-таки… Я вот, говорят, хорошенькая!— улыбнулась Иванова.
— Очень вы хорошенькая,— с умилением сказала Саша.
— Вот… чудачка вы!.. Так, ведь, красота— дар Божий, говорят… счастье… Что ж мне с этим счастьем так бы и сидеть да думать: сошью вот это, а там надо юбку для офицерши перешить, а потом лиф кончать, а потом еще… что принесут, а там состарюсь, все лифы перешивать буду… и так до могилы… и в могиле, должно быть, по привычке пальцами шевелить буду… А там на кресте хоть написать: честная была, честная померла,— извините, что от этого никому ни тепло, ни холодно!.. Ха!
Саша молчала. Ей было грустно, точно померкло что, а в то же время стало и легче на душе.
Иванова помолчала опять, а когда заговорила, то голос у нее был нежный и мечтательный.
— Я понимаю, если всю эту муку есть для кого терпеть… или там задача в жизни какая есть… А нам ведь только и радости в жизни— нацеловаться покрепче!..
— Будто?— отозвалась рябая так неожиданно, что Саша вздрогнула.
— Да, может быть, у кого и другие радости есть, ну… и слава Богу— его счастье!— радуйся и веселись!.. А какая у меня, например, или вот у нее,— показала она на Сашу,— или у Кох…
Кох опустила работу на колени и смотрела на них тупо и скучно.
— А?
Рябая молчала.
— И кто от меня может требовать, чтобы я, дура темная, свою одну радость— красоту и молодость засушила так… ради спасения одного?.. Ты мне укажи, для чего, для кого, дай такое, чтобы я от спасения моего так вот прямо и радость почувствовала, чтобы мне, спасшейся, жить легче стало! Вот!.. Таких, чтобы так, для Бога, вериги носили, может, на всем свете два, три, да и те не здесь, а где-нибудь на Афоне спасаются… А всем…
В это время отрывисто звякнул и задребезжал колокольчик в коридоре…
И сейчас же Кох встала, аккуратно сложила шитье и стала стлать постель. Проснулась и Сюртукова, и рябая тоже встала, потягиваясь.
— Ну, вот и бай-бай!— засмеялась Иванова.— Черти, электричества жалко!
— А мне спать-то еще неохота,— не поняв, сказала Саша:— посидите душенька.
Иванова с насмешкой на нее посмотрела.
— Неохота!.. Мало ли чего тут неохота!.. Такой тут порядок. Что, не нравится? Ложитесь, а то Корделия наша придет!..
— Чего?— не разобрала Саша.
— Кордeлия, Корделия Платоновна… надзирательница наша,— пояснила Иванова.