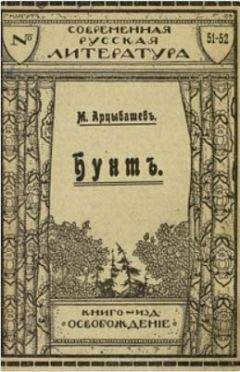Баронесса удивленно помолчала.
— Какое горе? Что вы говорите?
— Меня любовник бросил… человек любимый,— так же тихо поправилась Саша, в упор глядя в глаза баронессе.
— Что?.. Да мне какое дело?— вскрикнула баронесса.— Скажите, какие нежности!..
— А вы вон плачете, когда письма читаете,— упорно, точно подхваченная чем-то, продолжала Саша.
Баронесса побледнела, в ее лице мелькнуло то мягкое и растерянно-жалкое выражение, какое бывает у всех людей, у которых нет счастья.
Те письма, о которых говорила Саша, были письма от ее мужа, давно не посещавшего больной и скучной жены.
Но баронесса преодолела свое чувство, считая унизительными выдать его такому ничтожному человеку, как Саша.
— Вы, кажется, сравниваете меня с вами?— высокомерно проговорила она.
— Все равно,— сказала Саша:— всем счастья хочется… что вам, что мне!
— Счастья… скажите пожалуйста! Вы не для счастья здесь, а для того, чтобы ухаживать за больными!.. Делайте свое дело… Подымите меня!
Саша не тронулась с места.
— Да вы слышите или нет?
— А вы бы стали ухаживать за больными?— спросила она.
Баронесса с испугом и ненавистью скосила на нее блестящий больной глаз.
— Я уже сказала вам! Не смейте сравнивать меня и себя… Вы… вы должны быть счастливы, что вам дышать позволили!… Дрянь!— сорвалась баронесса.
— Эко счастье!— усмехнулась, как в каком-то бреду, Саша.— Дышать везде можно… дорого за дыханье-то берете… вы!
— Да как ты смеешь со мной говорить так,— крикнула в исступлении баронесса и прибавила скверное и грубое слово, где-то слышанное ею.— Я велю вышвырнуть тебя отсюда, несчастная!.. На улице сгниешь!— крикнула она.
Холодное и тяжелое чувство прошло по Саше и вырвалось резким криком:
— Ну, и пусть! Эк напугали… Все сгнием… вы еще скорее меня!
— О…— испуганно и жалко вскрикнула баронесса.
Что-то злобно-веселое подхватило Сашу, и точно мстя кому-то, она кричала:
— Ну, да… сгниете, сгниете… вы и теперь уже гниете!.. Вы честная… чтоб вам!..
Баронесса что-то слабо и неясно выговорила, подняла руку и зарыдала. И рыдание это было так бесконечно жалко и страшно, что Саша, расширив глаза, замолчала, а потом с ужасом и гневом выскочила в коридор и побежала прочь.
На дворе уже светало.
Саша подошла к запотевшему окну и, глядя на смутно видневшуюся улицу, взялась за голову и сказала громко и протяжно:
— Все сгнием… и я и все… кабы радость какая! А так все равно! Скучно… ску-учно!..
Мимо окна с тусклым дребезжаньем пронеслась карета с зажженными фонарями. Рослые лошади стлались по мостовой, и Саша заметила важного, вытянувшего руки кучера.
«С балу, должно,— подумала она,— так ежели бы… а то!.. Что ж?.. Бог с ними совсем… Кучер-то, чай, всю ночь сидел, ждал, — почему-то пришло ей в голову.— Ах ску-учно!.. За что?..»
За окном блестела мокрая мостовая.
И глаза у Саши стали мокрые, как мостовая, и ей показалось, что вся она слилась в одно с этой мостовой, серым небом, серым мокрым городом, будто нигде нет ничего ясного, чистого, живого, а только одна больная, бессмысленно-нудная слякоть.
И это ощущение, противное и неестественное в молодом, полном силы, красоты и желания счастья существе, прошло только тогда, когда Саша в новом стального цвета, красивом платье, купленном на деньги Рославлева, в огромной прелестной шляпе вошла в зал «Альказара» и в зеркале увидела то, что любила больше всего: саму себя, красивую, нарядную, прелестную с ног до головы.
И уже когда она была совсем пьяна, Саша выговорила:
— Черт с вами со всеми!
Пьяный, веселый господин в блестящем цилиндре засмеялся.
— Что так?
Саша бесшабашно махнула рукой.
— Поедем, миленький… все равно!..
И ночью, в его объятиях, от вина и бесшабашного угара Саше было приятно, шумело в голове и казалось, что весело.
Утро встало серое, мертвое, бесконечно и безнадежно печальное…