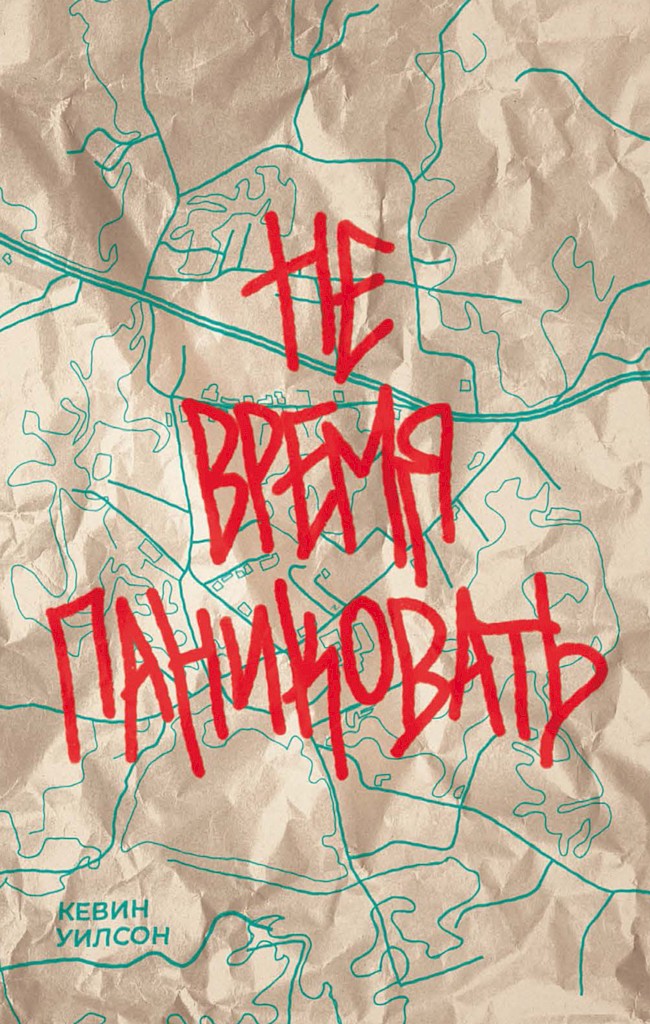class="p1">— А что он должен собой представлять?
— Что-нибудь, что хрен разберешь. Что-нибудь сверхъестественное. Типа загадки или головоломки, которую никто не в состоянии разгадать. Такое, чтоб у всех крышу посносило.
— А как мы этого добьемся? — спросила я.
— Ты же писательница, так? — ответил вопросом на вопрос Зеки, улыбаясь и начиная дрожать от возбуждения. — Ты напишешь что-нибудь по-настоящему странное, затем я это проиллюстрирую. Мы сделаем, допустим, двадцать копий. И развесим их в городе.
— И что мне написать? — спросила я, все еще не врубаясь.
— Да что хочешь! Что-нибудь по-настоящему странное и непонятное. Типа того, что это вроде ничего не значит, но в то же время кое-что значит.
— Звучит сурово, — признала я.
— Вовсе нет, — возразил Зеки, приходя в крайнее возбуждение. Глаза его поблескивали, как у мультяшного персонажа, и были такими черными, что зрачки, казалось, искрятся. — Не парься. Просто напиши что-нибудь.
— Не могу. — Я чувствовала, что не разделяю в должной мере его энтузиазма и потому от меня нет толка. — Не могу я просто взять и что-нибудь написать.
— Нет, можешь, — сказал Зеки. — Ты изумительная писательница. Просто напиши здесь… — он схватил лист бумаги и положил его передо мной. — Первое, что придет тебе в голову.
— Про что? — спросила я, уже чуть не плача.
— Про Коулфилд. Про этот город. Про свою жизнь. Про своего тупого долбаного папашу. Да про что хочешь.
Я взяла карандаш и сделала глубокий вдох, будто пытаясь втянуть в себя все слова английского языка до единого. Принялась постукивать грифелем по бумаге, оставляя на ней крошечные точки. Стук-постук — продолжала я постукивать по бумаге. Я пыталась. Думала о солнце, о том, как ярко оно светит на улице, о том, каким жарким становится мир, и о том, что скоро мир перегреется и мы все погибнем. Но не об этом мне хотелось рассказать. Я думала про свою сводную сестру Фрэнсис и про то, что я могла бы приехать к ним в дом и подарить ей все свои молочные зубы, которые хранила в пластиковом пакетике. Думала про то, какой странный, кривой и маленький у Зеки рот. Думала про книгу, которую пишу, про девушку — гения преступного мира. Ее звали Эви Фастабенд. А свое тайное убежище, заброшенную лесную хибарку, она всегда называла «окраина». Когда она хотела совершить какое-нибудь преступление, она использовала это слово в качестве кодового названия. «Мне нужно поехать на окраину» — объявляла она, затем мчала на своем мотоцикле в лес, к ветхой лачуге, где хранила завернутый в старую футболку пистолет. «Окраина, — думала я. — Окраина, окраина, окраина».
И тогда я написала: «Окраина — это лачуги…» — и сделала еще один глубокий вдох (я вдруг поняла, что все это время не дышала). Предметы перед глазами стали расплываться. Зеки тронул меня за плечо.
— Ты в порядке? — спросил он, но я уже продолжила писать: «и в них живут золотоискатели».
Зеки заглянул поверх моего плеча в лист бумаги:
— А что… Довольно круто. Мне нравится, — сказал он.
«Окраина — это лачуги, и в них живут золотоискатели. Мы — беглецы», — написала я. В моей голове звучал тихий голос, и я записывала под его диктовку. И я знала, что этот тихий настойчивый голос не принадлежит ни Богу, ни какой-либо музе и вообще никому на свете, кроме меня самой. Это был мой голос. Мой и больше ничей, и я слышала его предельно четко. И он еще не закончил:
«Окраина — это лачуги, и в них живут золотоискатели. Мы — беглецы, и закон по нам изголодался».
А потом голос умолк. Исчез, затих где-то глубоко внутри меня. И я не знала, вернется ли он когда-нибудь. Наконец я прочла то, что написала.
— Мы — беглецы, — сказала я Зеки, улыбаясь. На меня напал смех, похожий на икоту. — Мы — беглецы? — спросила я.
— И закон по нам изголодался, — ответил с улыбкой Зеки. В этих фразах не было ни малейшего смысла, они ничего не означали. Однако Зеки понял. А прочее было неважно.
Это было лучшим из того, что я к тому времени в своей жизни написала. Я сразу это поняла. И что ничего лучшего я уже не напишу. На мой слух это звучало совершенно.
Сидя на корточках на полу гаража, мы с Зеки произносили эти слова снова и снова, пока они не превратились в код. Код для обозначения всего, о чем мы когда-либо станем мечтать. Такой код, что, повстречайся мы снова лет через пятьдесят, достаточно будет его в точности воспроизвести, и мы сразу поймем. Поймем, кто мы такие.
— Можно тебя поцеловать? — спросил Зеки, и я подумала, что лучше бы он этого не спрашивал. И в то же время мне понравилось, что он это спросил, а не стал пользоваться ситуацией.
— Можно, — ответила я, и мы поцеловались, и я почувствовала крохотный кончик его языка на своих зубах, и от этого меня пробрала дрожь. И все время, что мы целовались, в моей голове крутилось: «Мы — беглецы, беглецы, беглецы», и я знала, что закон, каким бы он на хрен ни был, по нам изголодался.
Мама должна вернуться в пять. Когда вернутся тройняшки — без понятия; впрочем, я могла рассчитывать, что вероятность их появления дома крайне мала, пока они нюхают клей или занимаются сексом с девушками на заброшенных фабриках. Ситуация напоминала часовую бомбу, готовую вот-вот взорваться, и мы должны были ее обезвредить, не зная, как это делается. А может, наоборот, мы сами закладывали бомбу. Кто знает. Я чувствовала только, что нечто стоит на кону, вот что я пытаюсь сказать. Мне хотелось и дальше целовать Зеки, однако с этим соперничало возбуждение, рожденное возможностью что-то создать. У нас были слова. Наш код. Окраина. Беглецы. Закон. Но нам предстояло придать всему этому привлекательный вид.
У Зеки имелись всякие крутые и дорогие художественные ручки и карандаши, типа «Пентел» и «Майкрон», а также японские кисточки для рисования, но я предпочла черный маркер «Крайола» и принялась за работу. На листе бумаги предстояло расположить множество слов, поэтому мне пришлось уменьшить размер букв, чтобы осталось место для Зекиных художеств, но в то же время я хотела, чтобы шрифт был достаточно жирным и эти слова легко читались. Заглядывая мне через плечо, Зеки шептал очередную букву (б…е…г…л), и мне нравилось ощущать его дыхание на шее, однако рука моя не теряла при этом твердости.
Когда я закончила, Зеки утащил лист (я даже не успела перечитать написанное) и взялся