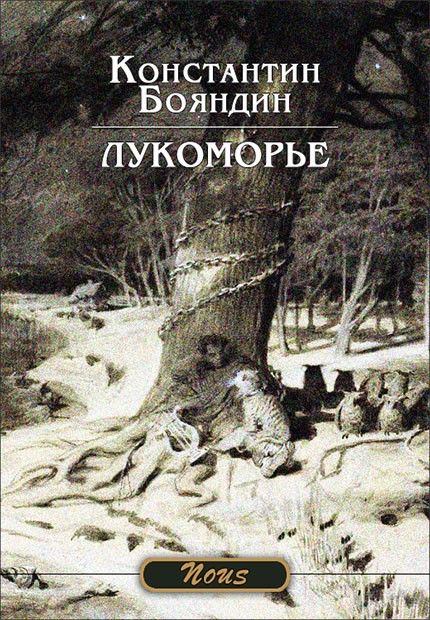него рвалась струна, и не было запасных, и она бежала в магазин рядом. Прибегала мокрая – прямиком из-под дождя. Прости, я не знал, что там дождь. Ничего. Я тебе воду ещё взяла, а то тут с газом же. Ему больше не надо было решать вопросы, суетиться, думать о чём-то кроме музыки. Она была рядом, плечом к плечу, локоть к локтю. Он хотел сохранить это. Эти гримёрки маленьких московских клубов, или даже простые столики у сцены, где ему теперь не надо было думать, что его кто-то видит и подойдёт поговорить, сделать ненужное селфи. Она всегда была рядом. Нет, Саша пока занят, давайте после.
Она защищала его. Словно младшего брата. Если артист перед ним затягивал своё выступление, она шла разбираться к организатору. Она шипела, сверкала глазами, она выбивала ему лучшее время в программе, следила, чтобы у него всегда была вода, время на чек, свой уголок до концерта. Она отбивала его от навязчивых пьяных музыкантов. Её побаивались, уважали. Все знали, что она сделает для него всё, что угодно. Она была ему предана. Ей было всё равно, что другому артисту надо было уезжать в аэропорт. Нет, Саша не будет уступать своё время. И тогда он сам уже успокаивал её, притормаживал – Алин, всё нормально, я выступлю после. И он смотрел из-за кулис на молодого музыканта из Минска, смотрел с восхищением, и подходил после, и говорил, что его песни прекрасны. Теперь ему не надо было ни с кем воевать. Он хотел сохранить это.
Потом ехали домой. На самый кончик синей ветки. Счастливые, усталые, прильнув друг к другу в метро, придерживая гитару, бутылку шампанского или коньяка, что она умыкнула для него из гримёрки. Шли в круглосуточный у дома. Ходили с одной корзинкой на двоих: шоколадки по акции, яйца, соевый соус, овсянка, презервативы, сигареты – корзинка повторяла их маршрут в обратном порядке. Длинный чек полз под обветренными пальцами кассирши, список их жизни. Он хотел сохранить все эти покупки, скомканные на дне карманов. Развернуть, перечитать. Домик в деревне. Твикс. Контекс. Вог с ментолом. Она так мило и тщательно перечитывала каждый чек у кассы. Словно кто-то мог украсть немного их счастья.
Она начала курить. И он начал курить ради неё. Полюбил ментоловые, хотя раньше терпеть их не мог.
По вечерам, до самой ночи лежали в маленькой ванне вдвоём: он – спиной к стенке, она – вложенная в него, лопатками в его мокрую грудь, укрытая его руками, ногами, в тесноте, в мыле, ментоловом дыму. Говорили тихо. Шутили. Плескались. Смеялись друг в друга, сотрясали друг друга, вспоминали свою дружбу до, переиначивая каждое событие, замолкали, тянулись друг к другу. Как сохранить это? Влага, пар, сдержанный выдох, ватные ноги, холод пола?
Это могло произойти, где угодно. Она любила смотреть, как он играет. Она всегда просила его сыграть. На кухне, в комнате, на балконе. Он пел ей тихо, чуть в сторону, прикрывал глаза. И она просто смотрела. Не снимала, не подпевала, а просто смотрела, и только у самого конца песни, у самого кончика, хвостика, говорила – давай? Подожди, гитара. Давай, Саш. Подожди… Давай. Подожди, дай надену. Давай без? Нет, дай.
Это были дни счастья. Такого огромного, щемящего счастья. Слишком огромного.
По ночам он лежал, обнимал её и боялся всё потерять. Плыли по стенам отблески фар, вся их съёмная однокомнатная лодка плыла через ночь, и они лежали на самом её дне, в обнимку, и она дышала ему в шею, забрав себе его затёкшую руку, словно ничейную провинцию, а он лежал и боялся, что всё это кончится – и комната, и ванна, и чеки из магазина, и сигареты, и смс, её лодыжка на его, и полуостров затёкшей руки – всё это может кончится, всё такое хрупкое, плывёт через ночь в реке её волос, и он обнимал её сильнее, прижимал крепче, на дне однокомнатной лодки, и она чуть просыпалась, совсем чуть-чуть просыпалась, страшный сон, Саш, нет, нет, спи, всё хорошо, спи. Он так хотел сохранить это.
Он боялся писать про это песню. Он уже столько песен написал про тех, что в итоге ушли, про тех, что потерял, и он просто боялся писать про неё. Если перенести эти списки покупок, и шампанское в метро, шёпот в гримёрках, и в ванну в обнимку – перенести в песню, в голос, это отслоится от них и поплывёт прочь, прочь по реке. Нет, он не хочет петь про это. Не сейчас. Пока не время.
Она писала ему записки. Маленькие самодельные открытки. Делала на листках А4 в офисе, разукрашивала маркерами, наклеивая цветную бумагу. Любимому музыканту. Моей рок-звезде. Не сутулься на концерте, Саша. Гляжу в даль, думаю о Дале) Моему зайцу. Он находил их в карманах джинс, в чехле гитары, у самого сердца в кармане пальто. Стоял, рассматривал, улыбался как на первом курсе.
Они любили мечтать по выходным. В день, когда не было концерта, и она была свободна от работы. В какое-нибудь тихое весеннее воскресение. В Измайловском парке или на Лосинном острове. Вдоль Дербеневской набережной, в районе Старой Басманной и на её любимом Крымском мосту, недалеко от её офиса – они мечтали, как будут жить после. Как они выпустят его новые песни, и даже снимут клип. Как аудитории станет больше. Как она уволиться с работы в осточертевшем ивент-агентстве и будет ездить с ним по всем городам, и будут полные залы. Ему не нужна огромная слава, ему не нужен Олимпийский или даже «16 тонн», просто небольшие клубы на сто, двести человек. Но в каждом городе. Ведь этих денег хватит на их жизнь, они даже считали, сколько им нужно денег вдвоём на тихую жизнь на окраине Москвы. На вино по вечерам и кофе по утрам, на завтраки, обеды, иногда одежду и может быть, путешествия. Он свозит её в Индию и покажет Непал, и они вместе пройдут Випассану, которую он так и не прошёл, им же нужно совсем немного. И они считали сколько нужно давать концертов в год, если средний билет будет стоить в Москве рублей шестьсот или даже тысячу, да, тысячу, Саш, а в регионах поменьше. И там выходила даже какая-то реальная цифра. И ездить он будет только в купе, никаких плацкарт, и останавливаться они будут в гостиницах, в скромных и простых, им не надо много, двухместное счастье. Она будет его верной подругой, дорожной женой, домашней