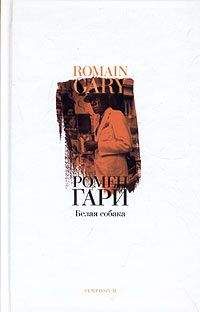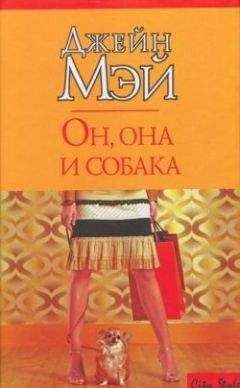5. Вот так, после приличной дозы размышлений, принятой в разогретых внутренностях разных транспортных средств, я вдруг наконец оказался перед нужными дверями на нужном этаже нужного дома и т. д. (не хватало лишь таблички с фамилией), и только теперь мне подумалось, как все это там, дальше, за этими дверями, может оказаться трудным. Чуть запыхавшийся, ошарашенный неожиданной важностью момента, простоял я так какое-то время, всматриваясь в кнопку звонка. В конце концов, видимо из уважения к пережитым неудобствам, я решился ее нажать, ну а если не зазвонит, испугался я, со мною всякое бывало. Я попытался представить Баату, как она мне открывает, но в голову лезли все какие-то лесные поляны, поваленные деревья и прочие подобные реквизиты, совершенно не гармонировавшие с окружавшей меня сценографией. А без них Баата ни в какую не хотела появляться перед моими очами. И не появилась-таки, потому что открыла мне какая-то абсолютно незнакомая женщина, в связи с чем первая моя мысль, что попал не по адресу, что та цепочка следов, которые привели меня сюда, это какая-то бессмысленная космическая хохма и что из этого надо как можно скорее выбираться; однако вслед за этой пришла и другая, более взвешенная мысль: женщина эта, возможно, мама Бааты, а вся эта неразбериха из-за того, что Баата никогда словечком даже не упомянула ни о какой семье, но разве это повод надеяться, что я здесь застану ее, мою корреспондентку, одну и больше никого и ничего, ни мебели, ни занавесок, ни кастрюль, ни, тем более, родителей.
Меня пригласили на кухню, предложили стакан чаю (Баата как раз ушла в магазин купить что-нибудь к чаю), на кухне царил назойливый запах жирного.
— Чем вы сейчас занимаетесь? — спросила меня эта женщина, толстая, пятидесятилетняя, так спросила, как будто прекрасно меня знала и лишь хотела удостовериться в своем знании.
— Ну, учусь, — ответил я.
— А что конкретно изучаете, позвольте поинтересоваться?
— Литературу, польскую филологию.
— Литература! То же, что и Беатка, скажите на милость, вы, наверное, воздухом собираетесь питаться. А что вы собираетесь делать, когда закончите учебу?
— Пока не знаю, — я почувствовал себя, как бы это сказать, не совсем, — может, еще куда-нибудь пойду учиться, вот подумываю о киноведении.
— Ну хорошо, а когда вы всю эту свою учебу закончите, что вы тогда делать будете, с чего жить собираетесь?
— Понятия не имею, понимаете, это вроде как человека за завтраком спросить, что будет он есть завтра на ужин.
— А действительно, мы тут все ля-ля да ля-ля, а вы, наверное, еще не обедали? Смешно получилось. Разогреть котлетки?
— Нет, нет, спасибо, я в городе перекусил, как шел сюда с вокзала.
— И что же вы ели?
— Даже не помню, да купил там что-то.
— У вас, смотрю я, какое-то легкое отношение к жизни, пора задумываться, что будет потом. Ну а как дети пойдут? Это вам не шутки.
— Тем более что я вообще не собираюсь заводить детей.
— Это все разговоры, здесь вот (что-то зазвонило) у моей соседки парень тоже на ксендза хотел пойти учиться… Пойду открою. — На момент я остался на кухне один, но с надеждой, что пришла Баата и я буду свободен от дальнейшего выслушивания. К сожалению, в кухню вошла другая женщина, поменьше ростом, с дырявой сумкой, полной не пойми чего.
— Пан приехал к Беатке, — представили меня.
— А вы издалека, позвольте спросить? Там у вас тоже так сухо?
— Сухо? — задумался я на мгновение, зачем ей это. — Сухо.
— У нас вторую, почитай, неделю как без дождя. Ни капли. Я вам честно скажу, хоть и люблю я поливать и с радостью всегда делаю это, а так уж опротивело. Черешня, вот гляньте, какая хорошая, — она раскрыла сумку, а у нее там огурцы, помидоры, зелень какая-то, ну и черешня, — так представьте, птицы какие-то повадились, клюют.
— Скворцы? — подсказала мама Бааты.
— Не скворцы! Из лесу какие-то прилетают, седые такие.
— Тогда, может, дрозды, — предложил я.
— Тоже нет. У дрозда возле меня на тополе гнездо, я знаю, какие они, дрозды. А эти больше скворца, седые такие.
— Седые птицы из леса… — задумался я, — а вообще-то бывают такие?
— Я вот только что пану рассказывала, — мама Бааты решила взять разговор в свои руки, — об этом Миреке от этой, ну знаешь?
— А, знаю: вот какие люди бывают подлые, чтобы о ксендзе такие вещи рассказывать.
— Да какой он ксендз, если на мотоцикле ездит.
— Снова семинаристу кости перемываете? — смотрю, а это Баата незаметно вошла (наверное, у нее был свой ключ), а потом на кухню заглянул знакомый мне по письмам Фитцджеральд, ее спаниель, толстый и с одышкой.
— А ты чего по городу шастаешь, у тебя гость, им лучше займись.
Итак, пребывая каждый в своем расположении духа, мы тем не менее наконец оказались вместе, в комнате Бааты.
— Привет, — сказала она, мы сердечно обнялись, и сразу сделалось как-то славно. Комната была вытянутой, у одной стены стояла тахта, у другой — книжные полки и стол. Посредине — коврик или, скорее, дорожка бежала к окну, в которое виднелись коробки жилых домов и река за ними, а над рекой — небо цвета льна. В углу под окном — большой горшок с цветком. Баата была все той же, что и прежде, во всяком случае, я не смог бы отметить каких-то потрясающих изменений, да и вообще нам не было нужды искать общие точки в переписке (впрочем, мы оба понимали, что это не совсем то), чтобы было о чем поговорить. В конце концов настал тот неизбежный момент, когда я пошел к полкам посмотреть книги.
— О, у тебя есть Унамуно, — заметил я.
— Читал? Классный писатель.
— Ну, допустим, не читал, просто ассоциируется у меня с турлагерем, после лицея перед институтом. Дождь тогда лил как из ведра, вот мы дни напролет и вызывали духов. А ведь знаешь, когда чем-нибудь постоянно занимаешься, то в конце концов оно изживает себя. К концу второй недели, когда мы не знали, кого бы еще призвать, я придумал этого Унамуно, из-за его фамилии. Кроме того, попробовали общаться с иноязычными духами.
— Ну и что, по-польски с вами говорили?
— С ними как раз не было никаких особых проблем. А вот когда мы взялись за старопольских, но это уже в институте, перед экзаменом у Улевича, мы хотели, чтобы они нам сказали, о чем нас будут спрашивать, вот уж настоящий кошмар был. Совершенно нельзя было догадаться, что они хотят сказать, какие-то обрывки фраз, язык в состоянии разложения, как будто на том свете у всех склероз.
— Это как у Лесьмяна; помнишь его кладбищенские стихи?
— Ясно, Лесьмян должен был в этом деле неплохо разбираться, но мы-то вызываем этого де Унамуно; дело, помнится, было на какой-то школьной кухне, школа, перестроенная под дом туриста, ну и все причиндалы для жарки котлет, мясорубки, такие электрические, огромные, и мы, со свечами на столах, расселись, буквы тоже, кажись, на самом столе написали, вызываем. Ну и пришел дух, правда испанский (или даже сказал, что он из Уругвая?), короче, у него какая-то другая фамилия, не помню уже. Мы его тогда спрашиваем, почему именно он явился. А он отвечает, что его Мастер прислал. Что за Мастер? И тогда он начал его как-то так уклончиво описывать, мол, Князь Мира Сего, Властелин Мух, всякие там псевдонимы, лишь бы имени его не называть. Нас там уже страх обуял, вдруг кому-то пришло в голову спросить, а кто его вызвал. Тогда он говорит, что Александр. Мы поначалу опешили, и только немного погодя до нас дошло: ведь у Олеся Дзивиньского полное имя Александр. Смотрим на Олеся, а он белый как мел, в общем, в конце признался, что, когда мы вызывали Унамуно, он все время про себя повторял «приди, Сатана», потому что обычные духи ему надоели.
— Ну и что дальше?
— Дня три парень ходил сам не свой, мы даже подумали, а не подвергнуть ли его каким-нибудь экзерцизмам. Вот только никому особо не хотелось идти к ксендзу и дело излагать. Потом все пришло в норму, да и духов вызывать нам надоело и стало в лагере совсем скучно.
Примерно на этом месте вошла мама Бааты: принесла на подносе порезанный творожный тортик и два чая.
— Ты знаешь, зачем она приходила? — спросила она у Бааты.
— Откуда мне знать? — проворчала Баата.
— И я не знаю, — и обе прыснули со смеху.
Нет вещей, есть только идеи. Нет меня, есть только мои мысли. Но об идеях я знаю меньше, чем о вещах, о мыслях (их природе) я знаю еще меньше, чем о себе. За исключением, разумеется, тех мгновений, когда мне хочется постичь сущность собственного я, его экзистенцию, вот только ситуации эти в высшей степени неестественны, а неестественность эта как раз и отбраковывает их. Мое я ускользает от таких ситуаций, это все равно как желать наблюдать пламя в вакууме. (Хотя бывает и такое.) Идеалисты открещиваются от материального мира, ибо что в этом мире в состоянии поддержать их? Магия, спиритизм, откровения, весь этот ярмарочный ларек, в котором можно найти уверенность, но уверенность эта — никакое не очищение, а скорее осквернение, и все из-за ее реалистичности, наглядной доказуемости; наша мысль предпочтет искать свет в темноте, а не в полумраке, поэтому и Церковь, и Наука пренебрежительно(?) отворачиваются от тех вещей, честное исследование которых угрожало бы отменой как обрядов первой, так и постулатов второй.
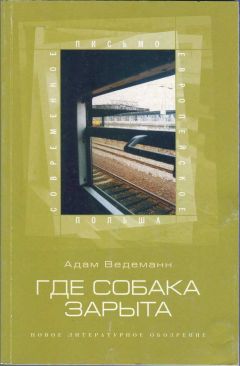
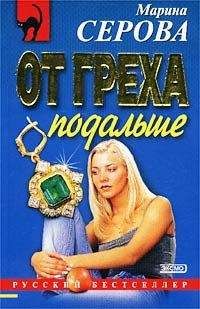
![Гилберт Честертон - Вещая собака [=Собака-оракул]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)