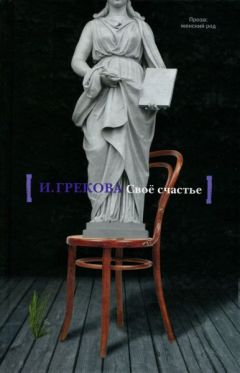— Допускаю. Не уверена.
— И ты это говоришь после... после того?
— Я уже говорила тебе: «то» было ошибкой. Осторожнее, у меня паяльник.
— Не буду. Но почему ошибкой?
— В таких вещах нет логики, нет «почему». Что-то такое не загорелось. Если тебе надо кого-то винить, то вини меня.
— Я хотел бы все-таки знать: чем я тебе не угодил? Чем я хуже других? Хотя это глупый вопрос. Давно знаю, что хуже. Во всем, всегда.
— Не кричи. Ничем ты не хуже других. Между прочим, «других» я не люблю тоже.
— Хорошее утешение. Их много было?
— О нет.
— Кто же именно? Не Фабрицкий ли?
— Таких вопросов ты мне задавать не вправе.
— Не буду. Прости, не сердись.
— Я уже простила.
— Люблю твой гнев: вспыхивает и тут же гаснет.
— Люби мой гнев, это можно.
— Если бы я был художником, я бы написал твой портрет: «Девушка с паяльником». Знаешь, сейчас луч солнца сзади упал на твое ухо, оно засветилось розовым, и я впервые понял выражение «ушная раковина».
— Обыкновенное ухо.
— Меня не покидает мысль, что, если бы я был кандидатом, ты бы иначе ко мне относилась.
— Глупо до предела. Какое это имеет отношение к ученой степени?
— Тебе хорошо, ты уже защитилась.
— Защитишься и ты, если для тебя это так важно. Работать ты умеешь. Если надо, я охотно тебе помогу.
— Не надо. Женщина в стальных доспехах.
— Вы знаете, — сказал Фабрицкий, — что нам сегодня предстоит. Обсуждать вопрос не будем, теорию я и без вас знаю. Перед нами конкретная ситуация: предложено проработать день на овощебазе. И мы выходим. Вопросы есть?
— Все ли выходим, и если нет, то почему? — спросил Коринец.
— Отвечаю: Максим Петрович в командировке.
— Как всегда, — подсказал Коринец.
— Как почти всегда. Анну Кирилловну как женщину, скажем деликатно, не самого юного возраста я освободил своей властью.
— А Шевчук почему не явился? — спросила Даная.
— Он у нас на полставки.
— Ну и проработал бы полдня. Без него скучно.
В этот самый момент явился Шевчук. Маслянистый, сияющий, с сигаретой на нижней губе. Все засмеялись.
— В чем дело? Я опоздал?
— Мы как раз обсуждали вопрос, почему вы не принимаете участия в нашем культпоходе, — ответил Фабрицкий. — Некоторые дамы выражали сожаление.
— А я, как видите, явился. И полный трудового энтузиазма. Хочу воспеть поход на базу в стихах. Уже придумал первые строки: «Без этой базы я б загнуться рад, обрыдло было прозябать без базы...»
— Не надо! — застонали кругом.
— Нет, вы вслушайтесь, какие аллитерации: «Прозябать без базы»! Инструментовка на «б» и на «з»!
— Обойдемся без инструментовки, — решительно сказал Фабрицкий.
— А знаете, тут что-то есть, — вмешался Полынин. — Этот метаславянский язык: «обрыдло было». Продолжайте, Даниил Романович.
— Пока есть только четвертая строка: «Как мильонер, перебирать алмазы». Немного подумаю, сочиню и третью...
— Думать не надо, вот она: «Бегу бегом, не требуя наград». Отшлифуйте и вставьте.
— «Бегу бегом, не требуя наград, как мильонер, перебирать алмазы...» — задумчиво повторил Шевчук. — Нет, не то. Вы не уловили духа торжественной медитативности произведения...
Со всех сторон посыпались варианты третьей строки. Шевчук отверг все: «Нет, товарищи, оставьте меня наедине с моей музой».
— Ну, ладно, — прервал стихотворчество Фабрицкий, — перейдем от художественной части к деловой. Объявляю поход открытым.
Двинулись. Впереди оперным шагом шел Фабрицкий в лыжном костюме и вязаной шапочке. Обтянутые икры играли, красный детский помпон болтался на шнурке с боку на бок. Рядом с Фабрицким под пару ему шагала Лора в ярком свитере, в дорогих джинсах. Ее светлые волосы стелились по ветру. По сравнению с этой нарядной парой все остальные выглядели люмпен-пролетариями: старые брюки, куртки, раздрызганные сапоги. Малых вел за руки двух своих близнецов, Рому и Диму. Мальчики катились, как послушные шарики.
На овощебазе пришедших встретила суровая толстая женщина в ватном комбинезоне. Она пересчитала рабочую силу. Дойдя до Малыха с близнецами, спросила:
— А эту мелкоту чего привели?
— Могу уйти, — сердито ответил Малых. — Детский сад на карантине, мать больна, я — кормящий отец. Протестуете — уйду.
— Да ладно уж, пускай будут, только без хулиганства.
Испуганные мальчики сопели носами. Они были в точности одинаковые: черноглазые, крепенькие, мохнатенькие.
Женщина распоряжалась:
— Этих на лук, тех на морковку, а этого, потяжельше, капусту топтать, — указала она на Шевчука. — Сапоги выдам под залог паспорта.
— Паспорта с собой нет. Членский билет Дома ученых годится?
— С фотом? Давай сюда.
Женщина взяла билет, удалилась в кулуары и вынесла огромные, крепко пахнущие резиновые сапоги.
— По полу не топай, только по капусте. Понятно? Остальных — лук, морковку перебирать, гнилье сюда, в бочку. Сидеть на ящиках, только аккуратно, они у нас квелые.
Лора опасливо оглядела ящик, вынула газету, разостлала. Женщина на нее накинулась:
— Разоделась, как на бал. Тоже мне работники! Сразу видно — НИИ. Прошлый раз тоже с ниёв приходили, не столько наработали, сколько по карманам рассовали...
— Потрудитесь вести себя прилично! — сверкнул глазами Фабрицкий. — Как ваша фамилия?
Она не испугалась:
— Шевчук — мое фамилие.
Взрыв хохота, которого не могла понять распорядительница, ее ошеломил. Она только водила глазами. Даниил Романович милостиво улыбался. Кое-как распределив рабочую силу по участкам и отдав распоряжения, женщина удалилась, захватив с собой однофамильца, Фабрицкий открыл «дипломат» и раздал каждому по паре резиновых перчаток:
— Частная собственность на средства производства. Поскольку база ими не обеспечивает, взял эту функцию на себя. За прокат — десять копеек с пары. Кому дорого, могу уступить.
Сотрудники, смеясь, натянули перчатки, сели на ящики, взялись за работу. Рома и Дима, сидя на одном ящике, молча и напряженно толкались спинами.
— Какие воспитанные мальчики! — восхитилась Даная. — Их не слышно и не видно.
— Услышите и увидите, — мрачно предсказал Малых.
Овощи были в ужасном виде. Морковь еще туда-сюда, а лук наполовину сгнил. Облепленные слизью луковицы выскальзывали из пальцев.
— От этого запаха мне прямо дурно, — пожаловалась Лора. — Чувствую, что упаду в обморок.
— Обмороки отмерли еще в начале века с отменой корсетов, — сказал Полынин. — Когда женщины носили корсеты и туго шнуровались, обморок был нормальной физиологической реакцией на что угодно: на мышь, информацию, дурной запах. В наше время, когда женщины носят брюки, они по части обмороков уравнены с мужчинами. Обморок как у тех, так и у других — очень редкое явление.
— Когда на меня упал шкаф, — сказал Малых, — я был близок к обмороку.
— А как себя чувствовал шкаф? — спросил Толбин.
Смех. Нешатов сидел рядом с Ганом и заметил его крайнюю бледность. Покатый лоб покрылся каплями пота. Было видно, что «редкое явление» вот-вот произойдет...
— Игорь Константинович, — спросил Коринец, — вы, кажется, большой сторонник физической работы? Эта вам тоже нравится?
— Нет, эта мне в высшей степени отвратительна. И не из-за запаха, а потому что я вижу загубленный человеческий труд. Мне мучительно жаль всего, что у нас пропадает, гниет, расточается.
— Что же вы предлагаете? — спросил Толбин.
— К сожалению, спрашиваете меня вы, а не более ответственные лица. Но мне кажется, что средства есть. Все знают, какой плодотворной оказалась бионика, идея которой в том, что искусственная структура подражает живому организму. Своего рода «экономическая бионика» тоже могла бы быть полезной. Ведь в личном хозяйстве овощи не гниют? Надо бы что-то позаимствовать из этого опыта. Обходилось бы хранение несколько дороже, но зато не гибли бы те луковицы, которые мы теперь без всяких эмоций бросаем в бочку с отходами...
— Игорь Константинович, ваши конструктивные предложения мы охотно выслушаем на научном семинаре, — сказал Фабрицкий. — А пока что все разговоры о состоянии овощей запрещаю. Проще всего считать, что за гниль отвечаем не мы, а кто-то другой. Конечно, в принципе он должен отвечать за свой участок работы, а мы — за свой. Но на деле этот «он» попросту не существует. Никто не хочет отвечать за овощи, все за науку. Тому, кто первым заговорит о плохом состоянии овощей, предлагаю перевестись на должность директора базы. Посмотрим, будут ли у него гнить овощи?
— Ловок командовать, — сказал Нешатов Гану. — «Запрещаю» — и баста, — тяжелое раздражение против Фабрицкого ворочалось у него в душе. Раздражала лихая манера говорить, раздражал помпон.
— В принципе он прав, — устало ответил Ган. — Критиковать гнилые овощи слишком легко, чтобы этим стоило заниматься.
Бледность Гана становилась пугающей.