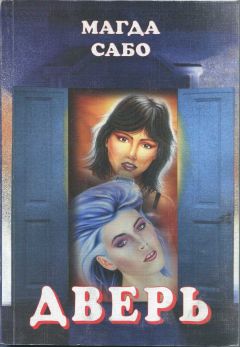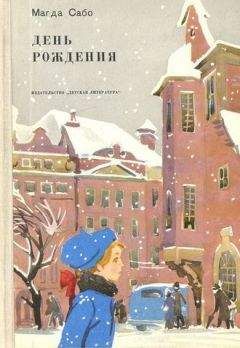В этом меня еще больше укрепили разные слухи; особенно — услышанное от одного из жильцов ее дома, налогового инспектора, который на досуге занимался еще и разными поделками, слывя у соседей толковым умельцем, мастером на все руки. По его рассказу, сколько он там ни живет, побывать у Эмеренц еще никому не удавалось; дальше площадки перед дверью она никого не пускает и сердится, если ее неожиданно вызовут за чем-нибудь. Кошку свою тоже не выпускает, держит взаперти. Слышно иногда мяуканье из-под двери; но внутрь не заглянешь. Даже на окнах ставни, которые она никогда не открывает. Кто ее знает, что уж у нее там, в квартире, какие ценности, кроме кошки, только закрываться вот так — не лучший, во всяком случае, способ их хранить, как раз и может навести на подозрения. Возьмут еще да и убьют в один прекрасный день… Далеко никуда не уходит, разве кого из знакомых проводит в последний путь; но и с похорон летит стремглав домой, будто опасность какую предотвратить. Так что не надо особо обижаться, если не пускает; она вон и собственного племянника, Йожи, сына ее младшего брата, и того подполковника, в холле перед дверью принимает — и летом, и зимой. Те уже давно усвоили, что дальше им тоже хода нет и только посмеиваются; привыкли.
Составлялся довольно мрачноватый портрет, и мне только еще больше стало не по себе от этого рассказа. Как это можно вынести такое затворничество?.. И если уж кошку держать, почему же совсем не выпускать бедное животное?.. Там ведь у них огороженный палисадник. И я продолжала считать Эмеренц не вполне нормальной, пока не услышала от ее преданной обожательницы, вдовы одного лаборанта, Адельки, целую эпически обстоятельную историю. Оказывается, самая-самая первая кошка Эмеренц, ярая охотница, сильно поубавила когда-то число голубей у одного разводившего их жильца, который в войну переехал к ним в дом. И он взял и радикальнейшим образом это пресек. Когда Эмеренц стала объяснять, что кошки — не университетские профессора, слов красивых не понимают и даже сытые будут охотиться, такой уж, к сожалению, нрав у них, он без дальних разговоров, даже не попросив держать неугомонную охотницу дома, поймал ее и повесил прямо у хозяйки на двери. И еще форменную нотацию прочел Эмеренц, замершей по возвращении у окоченевшего трупа. Вынужден, мол, своими средствами положить конец покушениям на единственный гарантированный источник дохода и пропитания для семьи.
Молча вынула Эмеренц кошку из проволочной петли — он, душегуб, не веревкой, а проволокой удавил ее (ужасное зрелище — этот труп с разинутой пастью!) — и закопала в палисаднике; но, как на грех, прямо в свежей еще могиле г-на Слоки, которого не успели перезахоронить. Ее из-за этого даже в полицию вызывали, кошкодав донес; но, к счастью, замяли дело. Все эти меры не пошли, однако, голубятнику впрок. С Эмеренц ему так и не удалось разругаться по-настоящему, та его просто перестала замечать и по домовым, жилищным надобностям сносилась с ним через мастера-умельца, как через парламентера. Голубей же словно какая-то зловещая солидарность потянула за собой: один за другим стали дохнуть. Опять явилась полиция: теперешний подполковник, который навещает Эмеренц, тогда еще младший лейтенант. Владелец голубей обвинил ее, будто она их травит. Вскрытие, однако, этого не подтвердило, никакой отравы в желудках птиц не нашли. Районный ветврач установил, что гибнут они от какого-то неизвестного вируса, так что нечего зря беспокоить соседей и власти.
И тогда весь дом восстал против кошачьего палача. Муж и жена Бродаричи, самые уважаемые жильцы, подали в совет жалобу на то, что постоянное воркование не дает спать по утрам; умелец заявил, что голуби весь балкон ему загадили; инженерша — что у нее из-за них аллергия. Все жаждали серьезного наказания, настоящей кары за повешенную кошку. Но совет к общему разочарованию ограничился лишь строгим предупреждением голубятнику вместо того, чтобы обязать распустить свою стаю.
Однако не замедлила и кара. На вновь приобретенных голубей напал тот же загадочный вирус. Голубятник опять попытал удачи в полиции. Но на этот раз вместо экспертизы младший лейтенант просто крепко его отругал: мы, мол, и так заняты по горло, не до ваших кляуз дурацких. И тот наконец сделал для себя вывод: предал Эмеренц через дверь вечному проклятию и, расправясь напоследок — уже тайком — с ее новой кошкой, вымелся со своими голубями в зеленую пригородную зону. Но и после все донимал оттуда Эмеренц анонимными поклепами. Она же с таким здравым незлобливым юмором воспринимала его подвохи, что и совет, и полицию к себе расположила. Там привыкли, что ее персона особенно притягательна для кляузников, как вон для молний — магнитная гора, и не давали наветам хода. Все, вплоть до начинающих инспекторов, просто складывали, махнув рукой, в досье одну анонимку за другой, сразу, по излюбленным словечкам, кудряво-обстоятельной манере изъясняться, узнавая голубятника. Изредка кто-нибудь и заглянет к ней, но просто так, кофе выпить, поболтать. А быстро повышаемый в звании подполковник — тот прямо повадился в гости к ней ходить. И когда назначат к ним в отделение новенького, тут же приведут познакомить; она поджарит колбасы, блинчиков напечет или пышечек соленых, кто что любит; расспросит, если тот из провинции, про его деревню, деда-бабку, про оставленную семью. Они уж и не передавали ей всего, что писали на нее, зачем попусту раздражать: что евреев якобы вылавливала и выдавала в войну, а сейчас тайный передатчик прячет, шпионские сведения американцам передает — и вдобавок скупает и укрывает краденое. Собственно, только после Аделькиного рассказа я успокоилась. И уж окончательно, когда — из-за потерянного удостоверения личности — пришлось зайти в полицию. Мимо как раз проходил подполковник и, услыхав имя и адрес, которые я диктовала, предложил посидеть у него, пока заполняется новое удостоверение. Я думала, с книгами моими знаком, поэтому так предупредителен, но ошиблась. Его интересовала только Эмеренц: она ведь, кажется, теперь у нас работает; как поживает, что поделывает? И как там дочка ее племянника (о существовании которой я и понятия не имела), вернулась ли из больницы домой?..
Наверное, поначалу я просто боялась Эмеренц. Больше двадцати лет пользовались мы ее услугами, но в первые пять не требовалось никаких особо точных инструментов, чтобы измерить расстояние, на которое она подпускала нас к себе. Я легко схожусь с людьми, охотно вступаю в разговор даже с незнакомыми. Эмеренц же хорошо, если два слова проронит, и то самых необходимых. Вечно ей некогда, обязательно у нее, поглощенной своей прямой, на совесть исполняемой работой, найдутся и другие планы и дела, которые занимали весь ее день без остатка. К ней на площадку, как на телекс стекались все новости, обо всем узнавала она первая, даром что никого не пускала за порог: о скандалах и смертях, о катастрофах и радостных событиях. Особое удовлетворение доставляло ей ходить за больными. Чуть не каждый день попадалась она мне на улице с большой миской под крышкой; я сразу понимала: еду кому-то несет, о ком толкуют, что совсем без сил, хорошо бы подкормить. Непременно приметит, где в ней нужда. Что-то такое от нее исходило, располагавшее к откровенности, и с ней делились, даже не рассчитывая на взаимность; зная, что ничего, кроме уже известного или банальных общих мест не получат в ответ. Политикой она не интересовалась, искусством и того меньше, в спорте не разбиралась — и сплетни о супружеских изменах выслушивала, воздерживаясь от собственных суждений. Охотнее всего обсуждала виды на погоду, поскольку ее отлучки на кладбище впрямую зависели от того, не соберется ли гроза, чего она, как сказано, боялась смертельно.
Погода, впрочем, не только влияла на эти, так сказать, общественные обязанности. Она определяла и все ее осенне-зимнее времяпрепровождение. Ибо тут уже ее прямым врагом становились осадки. Снег она бралась убирать, например, почти по всей улице; даже последние известия послушать не оставалось времени, разве что поздно ночью или ранним утром. Погоду, правда, можно было узнавать и по звездам. Она их отлично знала, многие даже по названиям, слышанным от стариков. Блеск их, яркий или притуманенный, позволял ей угадывать даже такие природные изменения, которые не всегда успевал предсказать и метеопрогноз. Перед целыми одиннадцатью домами подряжалась она чистить тротуары и, выходя на уборку, преображалась до неузнаваемости. Вместо начищенных до блеска туфель — резиновые сапоги и на самой навернуто все, что только можно; прямо как огромная тряпичная кукла. В снежные зимы она, казалось, вообще днюет и ночует на улице, совсем не ложась, как прочие смертные. Так оно, собственно, и было, такой предмет обстановки, как кровать, у нее, в сущности, отсутствовал. Умывшись, переодевшись, присядет просто на крохотное канапе, прозываемое «гнездышком влюбленных». Так и дремлет: мол, только в сидячем положении отдыхает — и спина ныть перестает. А лежа сразу нападает слабость и начинает кружиться голова.