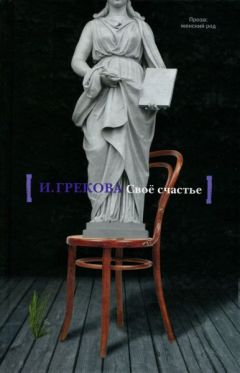— Каждый, — философски ответил Панфилов.
— Не понимаю! — вскипел Фабрицкий. — Письмо без подписи, без обратного адреса. Документом оно не является. Надо бросить эту мерзость в мусорную корзину. Или, еще лучше, сжечь рукой палача, как полагалось делать с анонимными письмами согласно указу Петра Первого.
— Палачи в штате института не предусмотрены. А просто сжечь или выбросить официальную бумагу я не могу. На ней входящий и исходящий номер. На нее надо отвечать.
— Крючкотворы!
— Я понимаю ваше возмущение, Александр Маркович, и его разделяю, но канцелярия есть канцелярия. Не нами это заведено, не нами и кончится. Я вас очень прошу, представьте мне к завтрашнему дню докладную записку по всем пунктам.
— Это приказ?
— Настоятельная просьба. А просьба начальника, сами знаете...
— Равносильна приказу. Ну что же. Бессмыслица, но приходится... Дайте мне письмо.
— Э нет, письма я вам дать не могу. Строго говоря, я не имел права даже его вам показывать, должен был выяснять устно. Давайте так: вы сделаете себе сокращенную копию письма, выпишете все пункты, а завтра придете ко мне с объяснениями. Ладненько? Только, пожалуйста, никому не говорите, что видели письмо. Мало ли как это истолкуют.
— Но с парторгом-то отдела я могу посоветоваться, с Борисом Михайловичем Ганом?
— Ну с ним, так и быть, поговорите, а дальше чтобы не шло.
Фабрицкий, чернее ночи, отсел за боковой столик и, прорывая бумагу, стал писать. Закончив, спросил:
— Разрешите идти?
— Зря вы так официально, — сказал Панфилов, — я ведь к вам по-хорошему. Идите, Александр Маркович. И учтите: у меня к вам нет никаких претензий. Я тоже считаю обвинения в ваш адрес смехотворными. Старый наш сотрудник, всем хорошо известный, член партии...
Вернувшись, Фабрицкий сразу же вызвал к себе Гана:
— Борис Михайлович, простите, что отрываю вас в горячее время. Но дело не терпит. Вот, читайте.
Шевеля бледными губами, Ган медленно читал копию письма, становясь все бледнее, под конец уже посерев. Прочел, перечел, отложил.
— Ну, что скажете? — спросил Фабрицкий.
— Ужасная мерзость.
— Панфилов хочет, чтобы я к завтрашнему дню написал ответ по всем пунктам.
— Придется писать.
— Где это, в какой статье закона записано, что честный человек должен доказывать, что он не подлец?
— Такой статьи закона нет, но так принято. Сигналы трудящихся не должны оставаться без внимания, даже когда они не подписаны. Принцип таков: за каждым письмом стоит живой человек. А может быть, он не хочет подписываться, боясь преследований? Опасность вполне реальная. Особенно на периферии, где какой-нибудь местный сатрап может подмять под себя всех...
— Но я-то ведь не местный сатрап. И я не хочу, вы понимаете, Борис Михайлович, мне отвратительно писать эти оправдания. Выразился бы покрепче, да боюсь вас шокировать.
— Напрасно. Я сейчас и сам выразился бы покрепче.
— Давайте на пару. Раз, два, три...
Поговорили. Ругань их странным образом сблизила.
— А вы, Борис Михайлович, оказывается, умеете. Вот бы не подумал.
— Русский мат в известных обстоятельствах незаменим.
— Как вы думаете, кто это писал? Явно кто-то из нашего отдела или близкий к нему. Приводятся такие подробности, каких не может знать посторонний.
— И все-таки я не знаю кто. И давайте не будем пока строить предположений. У нас слишком мало информации, чтобы вычислить автора. Лучше не знать кто, чем заподозрить невинного. Вообще-то можно заподозрить кого угодно.
— Кроме нас с вами, надеюсь.
— Насчет нас — согласен. Насчет самого себя — не так уверен.
— Вы шутите?
— Объективно я нахожусь в числе возможных подозреваемых.
— Ну ладно. Кстати, я забыл вам сказать, что письмо напечатано на машине «Наири».
— Это чуть-чуть сужает круг возможностей, но ненамного.
Вечером Фабрицкий сидел у себя дома и писал:
«В первом пункте своего доноса анонимщик утверждает, что я раздул штаты отдела и привлек к работе в нем слишком много докторов. Отвечаю: штаты отдела утверждены постановлением министерства от 2.12.76. В составе отдела четыре лаборатории с недоукомплектованными штатами, каждая из них в принципе должна возглавляться доктором наук. У нас две из лабораторий возглавляются докторами, две — кандидатами, так что фактически в отделе недобор, а не перебор докторов.
Во втором пункте анонимщик утверждает, что наши доктора ничего не делают. Эта клевета убедительно опровергается прилагаемым списком научных трудов И.К. Полынина, М.П. Кротова и А.К. Дятловой. Многие из этих трудов, в частности монография А.К. Дятловой, переведены на иностранные языки, так что вымысел анонимщика о якобы «научной несостоятельности» А.К. Дятловой опровергается сам собой. Имя А.К. Дятловой и ее научные заслуги хорошо известны и не нуждаются в защите.
...Далее анонимщик утверждает, что «диссертация Фабрицкого Г., на поверхностный взгляд, представляется далекой от нормальных образцов». Интересно, где это он мог кинуть на диссертацию Г. Фабрицкого свой «поверхностный взгляд», если этой диссертации в природе не существует — она еще только пишется.
Что касается утверждения анонимщика о малой практической отдаче отдела, то она убедительно опровергается прилагаемыми в копиях справками о внедрении, где подчеркивается большое народно-хозяйственное значение наших работ...»
Над объяснительной запиской Фабрицкий просидел до глубокой ночи. Каждый пункт он опроверг, как ему казалось, блестяще, приводя нужную документацию, пуская в ход иронию, юмор. Несмотря на отвратительность задачи, писал он даже с каким-то мрачным вдохновением. Было уже три часа, когда он отвечал на последний пункт.
«Что касается моей личной машины, которую в шутку зовут «Голубым Пегасом», то она действительно голубая, в этом анонимщик прав, и на этой машине я действительно иногда развожу по домам моих сотрудников, а кого и почему — в этом отчет давать не намерен».
Закончив записку, Фабрицкий перепечатал ее на машинке, поставил под ней свою уверенную, чуть залихватскую подпись и лег спать.
Когда на другой день он пришел на работу, оказалось, что Ган заболел. Подосадовав на это (ему не терпелось продемонстрировать Борису Михайловичу свой труд), Фабрицкий направился к директору, радуясь хорошо написанной отповеди, повторяя мысленно самые удачные фразы.
Иван Владимирович внимательно прочел документ (пять страниц текста плюс приложения) и сказал:
— Вы, Александр Маркович, слишком художественно написали. Ну, зачем эти ненужные эмоции? Во-первых, вы называете письмо «доносом». Этот термин у нас не принят.
— Как же иначе его называть?
— Письмо есть письмо. Давайте вычеркнем «донос», поставим просто и спокойно «письмо». Кроме того, зачем вы пишете «анонимщик»? Термин нестандартный. Надо говорить «автор письма». А для чего все эти восклицания о глупости и подлости анонимщика? Нужно писать в деловом, спокойном тоне. Не надо привлекать к себе внимание вышестоящих организаций излишней эмоциональностью. Там могут подумать: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». И, наконец, последний пункт о «Голубом Пегасе», где вы признаете утверждения анонимщика в чем-то справедливыми. Боже вас упаси от этого! Ирония здесь неуместна. А вдруг подумают, что в письме есть доля правды, что факты, хотя и частично, но подтвердились, а? Об этой возможности вы забыли. Я бы последний пункт сформулировал так: «Подвозя своих сотрудников на моей личной машине, я никаких корыстных целей не преследовал». И всё. Коротко и ясно.
Красный карандаш директора разгуливал по тексту отповеди Фабрицкого, здесь вычеркивая слово, там — снимая кавычки, там — заменяя целый абзац.
— Вот как теперь хорошо получилось, — сказал Панфилов, гордясь своей редакторской работой не меньше, чем Фабрицкий своей творческой.
Александр Маркович сидел как оплеванный, впервые в жизни познав горькое чувство писателя, у которого редактор вычеркивает лучшие места...
— Ну как, хотите прочитать в новом виде? — спросил Панфилов.
— Да нет, зачем уж. Посылайте как есть.
— У вас это первая ласточка. Я этих ответов в своей жизни написал ой сколько. Выработался уже стиль.
В два часа ночи раздался звонок, Нешатов подошел.
— Юра, это ты?
— Я.
— С Новым годом тебя. С новым счастьем!
— Ах, это ты...
— А ты думал кто? Что же ты не поздравляешь меня с Новым годом?
— Виноват, поздравляю.
— Как я ждала этого Нового года! В декабре ты обещал: в будущем году... Можно я сейчас к тебе приеду?
Нешатов молчал.
— Не хочешь? Я все равно приеду. Схвачу такси...
— Послушай, Даная...
— Поздно, неси назад.
Короткие гудки. Он огляделся. Титанический беспорядок. Больше, чем всегда.
Новый год он встречал с Ольгой Филипповной. Выпили шампанского. Расцеловались. Пили еще какую-то бурду. Телевизор бесчинствовал: какие-то приплясывающие кадры, на миг покрывающиеся рябостью. Актеры, актрисы, изо всех сил имитирующие счастье, и не какое-нибудь, а «новое». Что ж! Их работа.