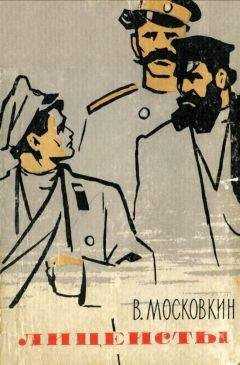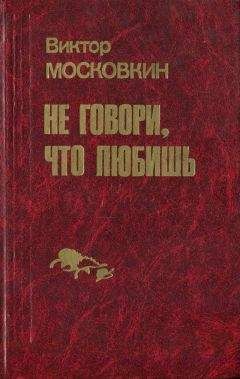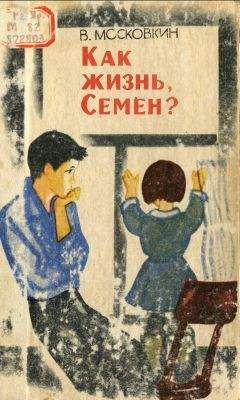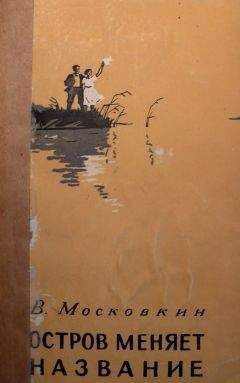Как директора фабрики, Грязнова бесили действия стачечного комитета, но когда он старался представить себя объективно мыслящим человеком, ни в чем не заинтересованным, эти действия удивляли его смелостью и продуманностью. Допустим, забастовкой руководят социал-демократы, те же лицеисты — люди грамотные и умные, — но они только подсказывают какие-то мысли, всю непосредственную работу ведут сами рабочие, и ведут с завидным умением. Больше всего поражало Грязнова то, что забастовщики сумели обуздать слободку, чего никогда не удавалось сделать полиции, — все полтора месяца не слышно ни драк, ни безобразных семейных скандалов.
Вот и сейчас, встретив рабочую охрану на хлопковом складе, он прежде всего возмутился: стачечный комитет старается вмешиваться в дела, которые его совершенно не касаются. Но остынув, он поразмыслил и пришел к выводу, что рабочие и тут учли все до мелочей. Случись пожар в иное время, ответственность несли бы лица, работающие на складе. Произойди он сейчас, вина пала бы на забастовщиков. Ну кто отказался бы от такой доступной и правдоподобной мысли: пожар учинен забастовщиками из ненависти к владельцу фабрики? Потому и решили они поставить свою охрану.
Постукивая тростью о ступеньки лестницы, Грязнов поднимался в контору.
Раньше в это время контора уже гудела голосами. Перед дверью по всей лестнице терпеливо стояли рабочие или те, кто хотел поступить на фабрику. За столами конторщики щелкали костяшками счетов, скрипели перьями. Дух деловитости большого сложного предприятия нравился Грязнову. Он распоряжался, вел переписку с заказчиками, принимал посетителей. День пролетал незаметно. Вечером чувствовал приятную усталость и глубокое удовлетворение собой.
Сегодня в конторе не только посетителей — служащих почему-то не было. И только перед кабинетом склонился над столом — искал что-то в папках — старший конторщик Лихачев. И еще рядом с ним сидел фабричный механик Чмутин. При виде Грязнова он поднялся.
— Ко мне? — справился Грязнов, проходя в кабинет и оставляя дверь открытой.
— Да. — Чмутин остановился у порога, не решаясь пройти. Ясные, как у младенца глаза, отводил в сторону.
— Пожалуйста, — добродушно сказал Грязнов, приглашая к разговору.
Чмутин в волнении шаркнул ногой, застенчиво улыбнулся.
— Алексей Флегонтович, это неприятно, я понимаю… но я вынужден сообщить о забастовке, которую объявили служащие. — Заторопился, словно ожидал, что директор не захочет выслушать, договорил: — Забастовка протеста… Служащие возмущены действием губернских властей. Они заявляют о своей солидарности с рабочими. Отказываются также производить расчет — считают эту меру по отношению к рабочим жестокой. Я уполномочен заявить вам обо всем этом.
Грязнов смотрел на фабричного механика и недоумевал. Оказывается, он не знает и этого человека. Чмутин был известен ему как хороший специалист и только. В остальном он не вызывал интереса. С подчиненными он робел и терялся, когда надо было применить власть. За глаза мастера посмеивались над ним. И вот он теперь «уполномочен заявить»…
Наливаясь гневом, Грязнов шумно встал, шагнул к механику. Гладкое, румяное лицо Чмутина побелело, губы дрогнули, но он нашел в себе сил выдержать жесткий взгляд директора.
— Вы понимаете, что вы сказали?.. — Грязнов задохнулся, дернул шеей. — Понимаете, чем это грозит вам?..
— Алексей Флегонтович, — дрогнувшим голосом сказал Чмутин, — я передаю мнение большинства. И прошу… прошу вас, не кричите на меня!
— Хорошо. — Грязнов опять сел в кресло, старался успокоиться и не мог, болезненно кривил рот. — Ваш протест ничего не изменит. Убитых не воскресишь… Конторщики не хотят делать расчет рабочим — это тоже не угроза. Найдем других. Пятьдесят процентов премиальных — и желающих будет хоть отбавляй. Ничего вы не добьетесь. Понимаете? Ничего!
— Служащие не могут поступить иначе, — упрямо сказал Чмутин.
После этого он спешно откланялся и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, выходившая на лестницу, Грязнов тоже встал. Лихачев все еще копошился в своих бумагах — делал вид, что крайне занят.
— А вы, Павел Константинович, разве не присоединяетесь к забастовке? — язвительно спросил директор — надо было на ком-то выместить раздражение.
Лихачев моргал белесыми ресницами, обдумывал, как ответить. Молчание затягивалось.
— Не мучайтесь, — насмешливо остановил Грязнов. — Вижу вашу преданность… Мы с вами «забастуем», когда фабрика опять станет работать полным ходом. Карзинкин оценит нашу стойкость и не обойдет милостями. Вот тогда и погуляем. Кстати, составьте ему отчет о вчерашнем дне. Телеграмму я послал, но не лишне сообщить о подробностях. О забастовке служащих пока умолчим — они еще одумаются. Сегодня же найдите способ объяснить им: кто готов производить расчет рабочим — получит пятьдесят процентов премиальных. Привлеките к работе в конторе табельщика Егорычева, он того заслуживает… И еще, к полудню закажите венок с лентой. Надпись придумайте, но чтобы видно было — венок от администрации фабрики.
Пока Лихачев записывал на листке бумаги все, что надо сделать, Грязнов разглядывал его, с иронией думал, что старший конторщик, пожалуй, единственный человек, который не выкинет ничего неожиданного.
В кабинете резко зазвонил телефон. Грязнов досадливо поморщился, пошел слушать. Звонил из больницы доктор Воскресенский.
— Алексей Флегонтович, — глухо рокотал он в трубку. — Поздравляю вас с сыном. Здоров, голосист… И заодно с племянницей. Варвара Флегонтовна благополучно разрешилась дочкой.
Грязнов устало и счастливо улыбнулся.
С утра из города стали прибывать делегации. Обнажали головы, со скорбными лицами подходили к помосту, ставили венки. Федор Крутов и Алексей Подосенов, с запавшими от бессонницы глазами, встречали прибывших. Правая рука Федора висела на черной повязке. Вслед за большой делегацией железнодорожников прибыли студенты Демидовского юридического лицея. На их венках были надписи: «От социал-демократической рабочей партии», «Павшим борцам за свободу», «Жертвам самодержавия».
Среди лицеистов было много тех, кто участвовал в перестрелке с казаками. Они здоровались с рабочими, как со старыми знакомыми. В молчании вставали в почетный караул.
Венки закрыли помост со всех сторон. А их все подносили — от трамвайщиков, от служащих почтово-телеграфной конторы, от рабочих свинцово-белильного завода.
К двенадцати часам в зале негде было повернуться. Лишь узкий проход к помосту оставался открытым.
Фабричные были немало удивлены, когда в дверях училища показался мастеровой — заросшее худощавое лицо, черные беспокойные глаза. Он снял шапку, медленно двинулся к помосту.
Алексей Подосенов указал Федору:
— Евлампий объявился.
Евлампий Колесников встал в почетный караул. На него поглядывали, перешептывались. С тех пор, как его арестовали, о нем ничего не было слышно.
Евлампий узнавал знакомых, едва заметно, чтобы не нарушать приличия, кивал. Когда передал ружье другому рабочему, подошел к Федору и Подосенову.
— Думал, посидим со встречей, порадуемся, — грустно сказал он, пожимая им руки. — А попал на поминки… И Марфушка, оказывается… Ее-то как не уберегли?
Ему не ответили. В зале произошло движение — смотрели, как подходит к помосту Лихачев. Он нес венок с надписью: «Погибшим рабочим от скорбящей Большой мануфактуры».
Фабричные сопровождали его негромкими возгласами:
— Расщедрились.
— Для мертвого рубля не пожалеют.
— Завернуть его назад.
Темнея лицом, Федор встал на пути конторщика. Он на самом деле хотел повернуть его.
— Не вызывай гнев — богомольные не простят, — шепнул Евлампий. — Поклоняться гробу доступно и друзьям и врагам.
Лихачев между тем остановился, не зная, как поступить. Пожилые рабочие и особенно женщины, видя, что ему мешают положить венок, недовольно зароптали. Евлампий подтолкнул Лихачева к помосту, кивнул. Тот с облегчением поставил венок, расправил ленту.
— Чего о себе не сообщал? Бедовал-то где? — спросил Федор Колесникова.
— Долгая история, — неохотно отозвался Евлампий. — Два года пробыл в Бутырках. Сюда не поехал — едва ли приняли бы на фабрику. А там приятель оказался, позвал с собой в Орехово-Зуево. Работал, пока не уволили. Сейчас из Москвы… Повидал, как рабочие на баррикадах бьются.
— С Марьей Ивановной видеться приходилось?
— Она же в Вологде. Сначала тоже в Бутырках была. Потом в ссылку, в Вологду отправили.
— Что делать собираешься? Здесь или опять куда?
— Пока не знаю. Огляжусь, там видно будет. Как это у вас все произошло?
— Тоже долгая история. После об этом.
На сцене рабочие снимали знамена, брали их, шли к выходу. Другие, с черными повязками через плечо, подходили к помосту по четверо, брали гроб на полотенца. Девять гробов протянулись от двери до самой сцены. Студенческий хор запел похоронный марш, и процессия медленно двинулась.