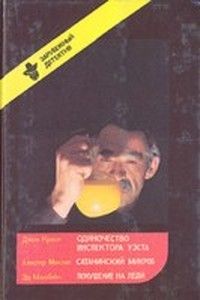- Ты же знаешь, что я тебя люблю.
- Нет. Ничего об этом не знаю. И как давно ты это почувствовала?
- Я видела тебя однажды в ресторане.
- И я тогда был чертовски весел?
- Да.
- Наверно, я перед тем сказал какой-нибудь девушке те же слова, что ты произнесла сейчас. А то бы нечем было расплатиться за веселье.
И я даже сказал Эстер, что люблю ее, только я от нее ничего не хотел. А потам, когда уже не стало Эстер, говорил то же самое многим женщинам, чтобы слова эти навсегда потеряли для меня смысл, и это единственное, что мне в жизни удалось, а я пробовал писать, стать летчиком, хотел вступить в Иностранный легион и собирался на войну во Вьетнам. А еще позже у меня была богатая жена, а потом другая богатая женщина, и я всем им говорил те же самые слова, что сказал Эстер, в тех же ситуациях, потому что Эстер уже не было, а я хотел уничтожить все, что принадлежало ей. Только женщины эти ни о чем не догадывались, а когда я признавался в любви, они мне не верили и водили меня к психиатрам, а некоторые в ночные заведения, а я твердил им те слова, которые говорил Эстер, а потом все объяснял, но они не верили, даже самые глупые из них, Я не сумел спасти Эстер и теперь хотел уничтожить все, что принадлежало ей; я уже ничего не мог сказать ей, поэтому говорил те же слова другим, но мне не верили. Так что и это мне не удалось, а Эстер всегда мне верила и, возможно, даже пошла бы в больницу, если бы я настоял и поговорил с ее родителями, я мог бы даже отвезти ее насильно, но она была со мной и верила, что, пока она со мной, ничего плохого не случится.
Она верила мне, когда я говорил, что скоро заработаю на квартиру и у нас будут книги и деньги на билеты в кино, верила моим обещаниям больше не пить, верила, когда я говорил, что мы поедем в Европу, а может быть, попадем и на Сицилию, где я покажу ей высланных из Штатов наемных убийц, к которым бармены обращаются "командаторе", верила моим рассказам о том, что когда мы будем высоко в горах и я прикоснусь к ней, нас словно током обожжет. И верила, когда я рассказывал о том, что видел, хотя на самом деле видел я не много, а просто сочинял для нее разные истории о неведомых мне людях, придумывал кинофильмы, потому что денег на ее любимое кино у нас не было. А еще я сочинял для нее книжки; и рассказывал о картинах в Лувре, где я никогда не был. И все, о чем я ей рассказывал, становилось явью.
Я уходил на море и долго плавал, чтобы устать и потом спать, но по-настоящему утомить меня могла только Эстер, Иногда я брал с собой ту девушку, если она стояла на шоссе, а если ее там не было, мы встречались с ней на пляже и болтали о том о сем, не касаясь лишь одной вещи, про которую и так нам обоим было все ясно. А тогда и говорить незачем. Она рассказала, что жених ее уехал раньше, чем собирался, а я и вовсе не откровенничал. Я смотрел на поднимавшиеся новостройки и думал, что через несколько лет Израиль станет таким же государством, как все другие, и тогда уже не будет смысла здесь жить. Но пока здесь было мало людей и мало машин, а туристы, которых занесло сюда, быстро получали солнечный удар и поспешно покидали сей край, успев перед отъездом сообщить, что в жизни не видали страны прекрасней и лучшей кухни, а надо сказать, еда в Израиле такая, что даже узники европейских тюрем взбунтовались бы против паскудного кошерного мяса без капли крови, напоминающего по вкусу бумажную подошву покойницких тапочек. Но пока здесь были еще апельсиновые рощи, пустыня и бесившие меня шакалы из дрянных кинофильмов. Многое здесь раздражало меня, поэтому я любил эту страну.
Девушка уплывала далеко в море, и порой целый час ее не было видно, а я смотрел ей вслед и думал о том, что Эстер теперь нельзя плавать, а она умела плавать лучше нее и лучше меня; и думал о том, что Эстер сделалась тяжелой и сонной, и я не был уверен, что она не останется такой навсегда, и мне опять приходили на память все те женщины, которым дети испортили фигуру, складки на их животах, их груди; я вспомнил, как одна женщина рассказывала мне, что после родов она возненавидела своего ребенка; а другая, в Америке, как она разлюбила своего мужа, не могла ему простить боль, причиненную ребенком; и вспомнил еще одну женщину, которая рассказывала, что никогда в жизни не испытала большего наслаждения, чем при родах; и ей хотелось иметь от меня ребенка, но ничего у нас не получилось Я перебирал разные случаи, расспрашивал врачей и женщин, бесконечно раздумывал на эту тему, но об одном я не подумал, о самой простой вещи, о том, что ребенок надолго отнимет у меня Эстер, а я ее слишком любил и не в силах был провести ночь без нее, и все это было вроде бы из другой глупой песенки, спетой другим бездарным певцом, но так оно и было, и тогда я уходил мыслями к моим шакалам, к пулемету, который согласно предписанию надлежало иметь при себе, хотя непонятно было, что с ним делать ночью; и снова перебирал в памяти все те скверные фильмы, в которых так много правды о всех нас, но которые никому не нравятся.
А потом возвращалась девушка и рассказывала мне о своем колледже, о том, что через два года она станет врачом; говорила, сколько будет зарабатывать через год, сколько через два; она знала наперед все, что с ней произойдет, вплоть до того дня, когда она невзначай отдаст концы, а это должно было случиться через два года после того, как концы отдаст ее муж и любимые собаки.
Мы снова поднялись по лестнице какого-то дома, и старик карабкался за нами, но тут зеленоглазая девушка призналась, что перепутала двери, мы спустились вниз и потом поднялись по другой лестнице, но у него уже не было сил идти, он остановился на ступеньках, а она протянула ему руку.
- Идем, - сказала она. - Это здесь.
- Помоги мне, - попросил он. Она спустилась на две ступеньки и снова протянула руку.
- Уже близко, - сказала она.
- Ты ведь не стучала в дверь, - сказал он. - Может, и там занято.
- Нет. Там наверняка найдется место. Там места много, на всех хватит. Идем.
Он поднялся на одну ступеньку и схватил ее за руку, но она вырвалась.
- Иди, - сказала она. - У меня нет времени.
И тут он, похоже, понял, а я отвернулся, когда она расстегнула сверху донизу платье, и тогда он поднялся на площадку и там упал, а она наклонилась над ним.
- Теперь надо, чтобы он еще раз повторил, что ты хорошая, - сказал я. - Таким должен быть конец. Нашлось бы много охотников сделать из этого фильм. Ведь он хотел увидеть свою дочь. Теперь он должен произнести какие-то слова. Ты, кажется, разочарована?
Его увезли, а я вернулся в свое кафе; она шла за мной. Я вошел и сел, но не в темном углу, а у стойки; подошел официант и отвернул вентилятор от моего лица.
- У меня из-за тебя неприятности, - сказал он. - Кто-то накапал шефу, что я пою тебя в долг.
Я положил на стойку десять фунтов, и он принес мне пиво.
- Нет, - сказал я. - Коньяк.
- Какой?
- Не задавай глупых вопросов. У меня нет повода пить хороший.
Она сидела рядом со мной, а я смотрел на отражение ее лица; даже в тусклом зеркале она была по-прежнему хороша.
- Можно выпить с тобой?
- Не могу понять, зачем ты пьешь, - сказал я. - У тебя есть деньги, и в этом городе всегда найдутся люди, которые поверят всему, что ты им расскажешь о себе.
- Ты мне не веришь.
- Я не могу понять, что тебе было нужно от этого старика, - сказал я. - Конечно, он был сукин сын. Я часто видел, как он сидел и угощал других, а сам никогда не пил. Но я все равно не могу понять. Я никого здесь не понимаю, впрочем, до всех вас мне нет дела.
- За исключением одного человека.
- Я никогда этого не скрывал.
- Но ведь ты сам говоришь, что невысоко себя ценишь.
- Это верно, Но ты-то чего от него хотела?
- Тебе ведь и до этого дела нет.
- А если он не умер? Вся затея провалится?
- У него было два инфаркта.
- К чему же третий?
- Чтоб ты мне поверил.
- Я тебе верю. Но это ничего не меняет.
- Следующий раз я так обойдусь с собой.
- Ну вот. Насмотрелась дрянных фильмов.
- То, что ты увидел, не было фильмом.
- Самым худшим из всех, что я видел. И зачем ты распахнула платье, когда он кончался? Это что, как в Библии? Моисей, которому запрещено ступить на землю обетованную?
- Нет.
- Так в чем же дело?
- Ты сам мне говорил вчера вечером. О том, что хочешь написать рассказ о человеке, который идет по городу и умирает от желания. Ты сам придумал историю с платьем. А я тебе говорила, что это ерунда, но ты уверял, что из этого можно что-то сделать. Вот я и доказала, что это глупо.
- Вчера вечером я был пьян и совсем не помню, о чем говорил.
Я заказал порцию коньяка и стал вспоминать: когда начались схватки, я бросился к джипу, и тут все завертелось как в плохом рассказе; забарахлил мотор, я поднял капот, оказалось, что отсырели контакты, ведь машина стояла близко от моря. Зажег спички, подсушил, даже резина слегка обуглилась, и поехал к акушерке, но ее не застал. И в доме не было никого, кто бы мог мне сказать, что она поехала к другой роженице; я колотил в закрытую дверь, но никто не отозвался, и тут я вспомнил, что та девушка учится на врача, и поехал к ней. Только в этот момент я забыл, что четыре месяца не прикасался к Эстер, и когда она открыла мне дверь и я увидел ее, заспанную и теплую, у меня начисто отшибло память, а когда мы приехали, было уже слишком поздно; прошло много лет, но я знаю: получилось так только из-за того, что я ее очень любил и не хотел ей изменять; а еще из-за того, что я познакомился с тем парнем, ведь мы смотрим на женщину глазами другого мужчины, только так, ведь и Эстер я увидел, когда она стояла в центре зала и сотня мужиков пялилась на нее; в общем, все кончилось как началось, так и должно быть, конец всегда такой же, как начало; и все, что с болью совершается в отпущенное двоим людям время, начинается с боли и кончается болью. А те муки, которые начинаются болями матери и кончаются болью ее ребенка, умирающего шестьдесят лет спустя, называют также любовью, и, возможно, так и должно быть. Только теперь умирают без боли, а возможно, и рожать будут без боли и невинность терять без боли.