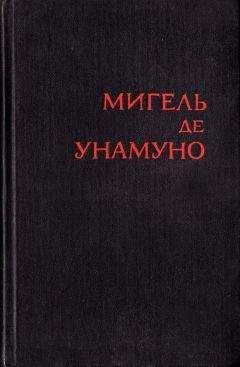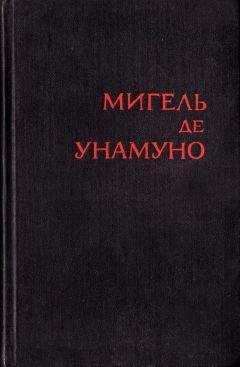– Он… твой муж… вне опасности, – объявил в один прекрасный день Хоакин.
– Спасибо, Хоакин, спасибо тебе, – и она взяла его за руку, которую он оставил в ее ладонях. – Ты даже не подозреваешь, как мы тебе обязаны…
– Вы тоже не знаете, скольким я вам обязан…
– Ради бога, не надо, Хоакин… Теперь, когда мы так тебе признательны, не надо ворошить прошлое…
– Да я и не ворошу его. Я очень обязан вам. Болезнь Авеля многому меня научила…
– Ах, так ты рассматриваешь ее как особо интересный случай!
– Нет, Елена, нет, – только как случай со мной!
– Не понимаю тебя.
– Я и сам не понимаю. Просто я хотел сказать, что борясь эти дни за жизнь твоего мужа…
– Называй его лучше Авелем!
– Хорошо. Так вот, борясь с его болезнью, я одновременно изучал свою. И, глядя на ваше счастье, решил… жениться!
– У тебя есть невеста?
– Нет, пока еще нет, но я решил искать. Мне нужно свое гнездо. Поэтому я хочу жениться. Или ты считаешь Елена, что я не найду женщины, которая бы меня полюбила?
– Конечно, найдешь; почему же не найти?…
– Я имею в виду женщину, которая бы меня полюбила…
– Конечно, я так и поняла, конечно, – женщину, которая бы тебя любила…
– Видишь ли, как партия…
– Ну, разумеется, ты очень хорошая партия… молодой, с достатком, впереди у тебя хорошая карьера, скоро ты станешь знаменитостью, ты добр…
– Добр… Но при этом не слишком симпатичен, верно, Елена?
– Почему же, Хоакин?… Откуда ты взял, что несимпатичен?
– Ах, Елена, Елена, где мне найти такую женщину?…
– Которая бы тебя полюбила?
– Нет, хотя бы такую, которая не обманывала меня, говорила мне правду, не смеялась надо мной, Елена, не смеялась бы надо мной… Которая вышла бы за меня с отчаяния, чтобы я ее содержал, и она сама бы это понимала…
– Ты и в самом деле болен, Хоакин. Женись!
– А ты думаешь, Елена, что найдется какой-нибудь человек, который смог бы полюбить меня?
– На свете нет ничего такого, чего нельзя было бы добиться. Каждый человек может найти кого-то, кто его полюбит.
– А я буду любить свою жену? Смогу я ее полюбить? Скажи…
– Странный ты человек, еще бы не хватало…
– Видишь ли, Елена, не быть любимым или не уметь добиться любви – это еще не самое страшное, самое страшное – не уметь любить.
– Вот и дон Матео, наш приходский священник, говорит, что дьявол не умеет любить.
– А дьявол, как известно, бродит по земле, Едена.
– Замолчи, не говори мне об этом.
– Хуже, что я постоянно твержу об этом себе.
– Замолчи, Хоакин!
Пытаясь найти убежище, спастись от терзавшей его страсти, Хоакин отдался поискам жены, заботливой супруги, в чьих материнских нежных объятиях он наглел бы защиту от бушевавшей в нем самом ненависти и на чьей груди он, как ребенок, испугавшийся буки, мог бы спрятать голову, чтобы не видеть адских, леденящих глаз дракона.
Бедная Антония!
Антония, казалось, родилась для материнства: была она самой нежностью, самим состраданием. Каким-то непостижимым чутьем она угадала в Хоакине страждущего, душевного инвалида, одержимого и безотчетно полюбила Хоакина за несчастливую его долю. Она чувствовала какую-то таинственную притягательность в острых, обжигающих холодом словах этого медика, не верившего в человеческую добродетель.
Антония была единственной дочерью вдовы, которую пользовал Хоакин.
– Вы думаете, она сумеет выкарабкаться? – спрашивала Антония у Хоакина.
– Мало шансов, очень мало. Бедняжка слишком измучена, совсем измождена… Видно, ей много пришлось перестрадать… Уж очень слабое у нее сердце…
– Спасите ее, дон Хоакин, спасите ее, ради бога! Если бы я только могла, я бы жизнь отдала за нее!
– Увы, такие вещи невозможны. Да и, кроме того, кто знает? Быть может, ваша жизнь, Антония, кому-то кажется еще нужнее…
– Моя жизнь? Кому? Зачем?
– Кто знает!..
Вскоре несчастная больная умерла.
– Так должно было случиться, Антония, – сказал Хоакин, – наука тут бессильна!
– Да, видно, так судил господь!
– Господь?
– Ах! – И глаза Антонии, наполненные слезами, впились в глаза Хоакина, сухие и жесткие. – Как, разве вы не верите в бога?
– Я?… Не знаю!..
Чувство благочестивого сострадания к врачу, которое возникло в этот момент в душе Антонии, заставило ее на минуту забыть о смерти матери.
– Что сталось бы теперь со мной, если бы я не верила в бога?
– Жизнь всемогуща, Антония.
– Думаю, что смерть еще более могущественна! Вот теперь… совсем одна… без близких…
– Я тебя понимаю, Антония, одиночество ужасно. Но у тебя хоть осталось святое воспоминание о матери, ты можешь молить за нее господа… А ведь есть одиночество другого рода, куда более страшное!
– Какое же?
– Одиночество человека, которого все презирают, над которым все потешаются… Одиночество человека, которому никто никогда не скажет слова правды…
– А какую правду вы хотели бы услышать?
– Вот ты можешь сказать мне правду, здесь, рядом с еще не остывшим телом твоей матери? Ты клянешься сказать мне правду?
– Конечно, скажу.
– Отлично. Скажи, я ведь малоприятный человек, правда?
– Нет, неправда!
– Правда, Антония…
– Нет, неправда!
– Так какой Же я человек в таком случае?…
– Вы? Вы несчастный человек, страдалец…
Лед в душе Хоакина растопился, и на глаза навернулись слезы. Душа его будто встряхнулась, радостно затрепетав.
Вскоре Хоакин и сирота решили узаконить свои отношения и пожениться, когда пройдет срок траура.
«Несчастная моя женушка, – записывал много лет спустя Хоакин в своей «Исповеди», – должна была не только любить меня и лечить, но и бороться с отвращением, которое я, без сомнения, ей внушал. Она никогда не жаловалась, никогда не давала мне это понять. Но как я мог не вызывать у нее отвращения, особенно после того, как я признался в зачумленности своей души, в гангрене своей ненависти? Она вышла за меня, как вышла бы за прокаженного – я в этом не сомневаюсь, – только по велению божественной своей благостности христианской жертвенности и духа самоотречения. Она жаждала спасти мою душу, а тем самым и свою через героизм святости. И она поистине была святой! И тем не менее она не излечила меня ни от Елены, ни от Авеля! Мало того – ее святость обернулась для меня новым поводом для угрызений совести, стала для меня вечным укором.
Ее кротость выводила меня из себя. Иной раз – да простит мне бог! – я предпочел бы видеть ее злой, разгневанной, презирающей».
Между тем слава Авеля продолжала расти и распространяться. Он стал одним из самых почитаемых художников Испании, молва о нем перешагнула границы. И эта растущая слава отзывалась в душе Хоакина острой болью. «Да, Авель очень рассудочный художник, отлично владеет техникой, эрудит, превосходно знает свое ремесло», – говаривал он о своем друге тоном, смахивавшим на змеиное шипение. Восхваляя Авеля, он стремился опорочить его.
Хоакин считал себя художником, настоящим поэтом в медицине, гениальным экспериментатором, творцом, человеком редчайшей интуиции и потому мечтал оставить клиентуру, чтобы всецело отдаться чистой науке – теоретической патологии, исследованию. Но ведь клиентура давала ему столько денег!..
«И тем не менее вовсе не заработки, – говорится в «Исповеди», – были главным препятствием на пути к научному исследованию. К науке тянуло меня желание славы и почета, стремление завоевать имя ученого, которое бы затмило имя художника Авеля! В сущности, мной руководило стремление наказать Елену, отомстить за себя, отомстить им обоим, а заодно и всем прочим; так завязался узел самых безумных моих мечтаний. Но, с другой стороны, эта нечистая страсть, избыток злобы и ненависти лишали меня спокойствия духа. Нет, душа моя не была подготовлена для научных штудий, которые требуют ее всю целиком, чистой и уравновешенной. Клиентура отвлекала меня.
Клиентура отвлекала меня, но подчас я вздрагивал при мысли о том, что состояние рассеяния и беспокойства, в котором держала меня моя страсть, помешает мне оказать должную помощь моим несчастным пациентам. Как-то произошел со мной случай, который буквально перевернул мне душу. Я лечил одну даму, заболевшую серьезной болезнью, далеко, однако, не смертельной. По какому-то совпадению вышло так, что с этой дамы Авель сделал портрет, портрет превосходный, одни из лучших его портретов – из тех, что наверняка войдут в число самых удачных его вещей. Так вот, портрет этот был первым, что бросилось мне в глаза, едва я вошел в дом этой дамы. На портрете она была совершенно живой – куда более живой, чем та страдающая плоть, что лежала в постели. Портрет, казалось, говорил мне: «Взгляни? Он дал мне жизнь. А вот посмотрим, сумеешь ли ты продлить жизнь моего двойника, там внизу, подо мною». И, сидя рядом с больной, выслушивая ее и считая пульс, я видел перед собой только другую – ту, что на портрете. Я был глух и слеп ко всему, и больная вскоре умерла; я позволил ей умереть; всему виной была моя слепота, моя преступная невнимательность. Я почувствовал ужас и отвращение к самому себе, к своему ничтожеству.