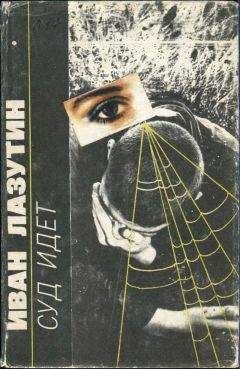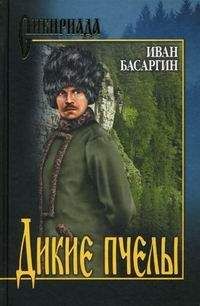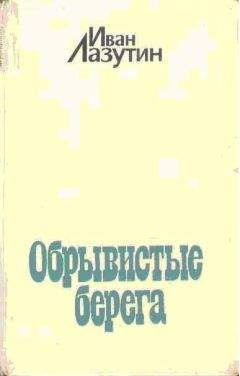— Ну так что ж, будем говорить правду?
— Я уже все сказала, гражданин следователь. Хотите верьте, хотите не верьте…
— Хватит! — оборвал ее Шадрин и долго молча смотрел в окно.
Решив, что упрямая и не очень умная девушка больше ничего не скажет, Шадрин сухо проговорил:
— Даю вам время на размышление. Через два часа снова придете в этот кабинет и скажете, кто вас врачевал.
— Как? Опять допрос?
— Да. Опять допрос. И снова допрос, допрос, допрос… И так до тех пор, пока вы не скажете правды.
— Какую вы хотите слышать от меня правду?
— Ту, которую вы позорно скрываете. Итак, вы пока свободны. Подумайте обо всем хорошенько и ответьте, кто вам делал аборт.
— Товарищ следователь, я еще раз категорически заявляю, что этого ничего не было… — Филиппова выпустила пулеметную очередь фраз, рассказывая, как она вешала шторы, как упала со стола, и как ее доставили в больницу. Не забыла при этом упомянуть и свою соседку, которую лечили от гриппа, а она чуть не умерла от крупозного воспаления легких.
Шадрин жестом остановил ее.
— Обо всем этом я уже слышал. Приходите через два часа. Ровно в тринадцать тридцать продолжим допрос. И знайте, гражданка, если вы снова будете вводить в заблуждение следствие, это отрицательно скажется на вашей судьбе. В данном случае вы поступаете уже не как жертва, а как сообщница запрещенных законом деяний.
— Вы не имеете права…
— Достаточно! — Шадрин решительным жестом оборвал Филиппову и кивком головы показал на дверь. — Итак, через два часа снова допрос.
Кокетливо и жеманно переваливаясь с ноги на ногу, повиливая бедрами, блондинка вышла из кабинета.
Второе дело было возбуждено по поводу аборта, сделанного двадцативосьмилетней женщине по фамилии Ведерникова. Шадрин бегло ознакомился с документами, вышел в коридор и окликнул Ведерникову. Со скамейки тяжело поднялась худая женщина и неуверенно двинулась навстречу следователю.
— Вы Ведерникова?
— Да, — еле слышно ответила женщина и нерешительно вошла вслед за Шадриным в кабинет.
«Что это — ошибка работника милиции или…» Шадрин сличил год рождения в протоколе и в паспорте. Расхождений не было.
— Сколько вам лет, гражданка Ведерникова?
— Двадцать восемь.
Не раз валялся Дмитрий в военных госпиталях и в больницах, видел раненых, контуженных, обожженных… Приходилось быть свидетелем, как на его глазах догорали остатки жизни у вывезенных из ленинградской блокады истощенных людей. Наконец, сам был ранен, сам побывал несколько раз под ножом хирурга. Но такого бескровного, как пергамент, и постаревшего лица он не видел. Если б Дмитрий не знал, что перед ним сидит двадцативосьмилетняя женщина, он наверняка бы дал ей все пятьдесят. Даже морщины у глаз и рта и те залегли так глубоко, что не могло быть никаких сомнений в ее возрасте. Вылезающие из-под застиранной косынки бесцветные, как пакля, волосы напоминали затасканный дешевый парик из кружка художественной самодеятельности. В больших глазах, безмятежно и покорно остановившихся на желтой папке, лежавшей перед следователем, застыло холодное безразличие, сквозь которое проступала просьба: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я так от всего этого устала…»
«Где, где же я читал о таких глазах? — силился вспомнить Шадрин, листая папку. — Ах, да, Шолохов. «Глаза, припорошенные пеплом…» Вот именно — серым пеплом. Лучше не скажешь».
— Вы замужем?
— Да, — кротко ответила Ведерникова.
— Кем вы работаете?
— Дворником.
— А муж ваш?
— Слесарем в домоуправлении.
— У вас есть дети?
— Трое.
— Трудно?
Ведерникова ничего не ответила и только стерла грубой ладонью навернувшиеся на глаза слезы. Молчанием этим было сказано все.
— Так что же вы, гражданка Ведерникова, не могли обратиться в больницу? Ведь в больнице это сделали бы настоящие врачи, законно, как полагается.
— Я обращалась. Да не разрешили… Говорят, строго с этим сейчас.
— Ну и что же вы решили? — Шадрин старался спрашивать мягко, боясь тоном обидеть и без того ослабевшую женщину.
— Что решила, вам все известно, взяла и сделала. С троими кружусь с утра до вечера, муж пьет, да и жить-то, по совести сказать, негде.
— Какая у вас комната?
— В полуподвале. Девять метров.
Шадрин мысленно представил в девятиметровой полуподвальной комнатенке рабочую семью в пять человек. Одно низенькое оконце, в которое неизвестно чего больше сочится — света или серой грязи, заплесневелый от сырости потолок, расхлестанная дверь, обитая тряпьем, и холодный, вечно холодный пол. «Пять человек… А мог бы родиться шестой… На человека меньше полутора метров. Теснее, чем на кладбище», — думал Шадрин, а сам все смотрел и смотрел в усталые, тихие глаза Ведерниковой. На какие-то мгновения Дмитрий забыл, что он следователь, что ему нужно допрашивать, добиваться признания, а если нужно — даже принуждать… «И ведь странно! Удивительно странно, какая силища живет в человеке!.. Вот она мыкается с такой оравой в сыром полуподвале, перебивается с хлеба на воду, день и ночь метет грязную мостовую. А скажи ей завтра: «Война! Родина в опасности!» — и она санитаркой умрет за родную землю, за власть. Из маленького оконца полуподвала она уже сейчас видит сказочные дворцы для своих маленьких сыновей. Она и сама еще надеется пожить в светлой и теплой комнате со всеми удобствами, и не на первом, а непременно где-нибудь на четвертом или седьмом этаже, где больше солнца, откуда дальше видно, где легче дышится. И этот муж ее, слесарь-водопроводчик… Он пьет… Ему тяжело. Может быть, я когда-то ходил с ним в атаку. А случись пойти еще раз — он не дрогнет, он пойдет безропотно на смерть. Он не будет помнить житейских обид и низенького оконца, выходящего в сумрачный московский дворик, куда не заглядывает солнце. Да, да, да! Верные и честные в беде в радостях не подведут…»
Шадрину хотелось думать дальше и дальше. Он уже отчетливо видел лицо мужа Ведерниковой, видел его замасленную фуфайку и сбитые, в шрамах, руки… Но… Нужно было допрашивать.
С трудом отогнав назойливые мысли, он спросил:
— Сколько вы заплатили абортистке?
Потупившись, Ведерникова молчала.
— Бесплатно?
— Почему бесплатно…
— Так сколько же вы заплатили?
— Двести рублей.
— Вы знаете о том, что вам чудом спасли жизнь? Что вас чуть не отправили на тот свет?
— Говорили в больнице.
— Вы потеряли больше половины крови. Еще несколько минут, и ваши дети остались бы сиротами.
Выцветшие глаза Ведерниковой снова омылись слезой.
— Кто вам делал аборт?
Ведерникова молчала.
— Скрываете? Скрываете людей, которые за ваши трудовые деньги делают вас на всю жизнь калеками и отправляют на тот свет? Вы знаете о том, что если теперь вы даже и захотите иметь ребенка, то уже не сможете?
— Знаю, — подавленно ответила Ведерникова.
— Тогда скажите, не скрывайте, Лидия Петровна, кто сделал вас на всю жизнь инвалидом?
— Просила не говорить…
— Если вы не скажете, то эта мерзавка отправит на тот свет или искалечит еще не одну такую же, как вы. Неужели вы этого хотите? Ведь вы же мать! — Шадрин встал. — Вы только подумайте, Лидия Петровна. Поймите, ведь она не специалист, она просто авантюристка, нечестный человек!.. Это ясно видно из медицинской экспертизы.
— А что мне за это будет, если я скажу? Судить?
— Наоборот. Вы поможете нам пресечь преступление. А те деньги, которые она с вас взяла, с нее обязательно взыщут. Ведь она на ваших грошах наживает себе богатство.
— Деньги-то уж не нужно… Сама давала. А вот калечить-то нашего брата — негоже. Если б я знала, что она не акушерка, разве я согласилась бы…
Шадрин нервничал. Он чувствовал, что психологически Ведерникова уже подготовлена назвать имя своей абортистки, но все как-то не решалась. А настаивать грубо, прямолинейно, чтоб она быстрее признавалась и называла виновную, было нельзя.
— А что ей за это будет? — нерешительно спросила Ведерникова.
Шадрин решил смягчить вину. Так было нужно.
— Посмотрим. Во всяком случае, нагоняй получит хороший. Ну, разумеется, не обойдется без штрафа. Это как наименьшая мера.
— А в тюрьму ее не посадят за это? Ведь сама я согласилась.
— Думаю, что нет. — И после некоторой паузы: — Она что, живет с вами в одном доме?
— Нет, рядом.
— В тринадцатом или в девятом? — спокойно, как само собой разумеющееся, спросил Шадрин.
— В девятом.
— У себя дома делала или у вас?
— У себя.
— Номер ее квартиры?
— Я у них в коридоре убираю.
— Так какой же номер квартиры? — Шадрин осторожно подбирался к цели.
— Пятнадцатая.
— Она одна живет или с семьей?