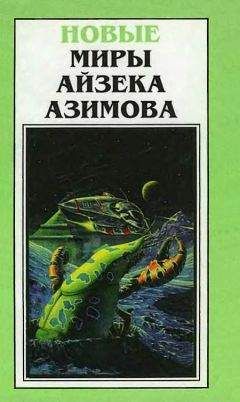Среди нашего огромного населения много преступников, и большинство их несомненно действует под влиянием бедности. Но, с одной стороны, сколько есть бедняков героически честных, честных, хотя и голодают и окружены соблазнами, а с другой стороны, сколь многие из сравнительно богатых оказываются на скамье подсудимых! Из всех выдумок та, будто честность есть вопрос денег, самая вопиющая и самая коварная. Вычеркни ее, Теккерей! Пусть она больше не уродует твои чудесные страницы.
Чтоб сменить этот тон серьезного упрека на другой, более уместный тон восхищения, отметим, как своеобразен у Теккерея юмор. Он подбирается к вам, скромно опустив глазки, так что вам кажется, будто вы сами вместе с автором подготовили шутку. Автор никогда не прячет его в раму и под стекло. Никогда не призывает вас полюбоваться шуткой с помощью какого-либо языкового фокуса. Не настаивает на вашем восхищении, а завоевывает его. Для передачи смысла в ход идут самые простые слова и самая простая манера; и тончайшее остроумие, как и сердечная веселость, как будто даются ему безо всяких усилий. В легкости, с которой он пишет, есть что-то колдовское, и если судить по небрежной легкости его слога, можно предположить, что все это написано беглым, беспечным пером.
Еще одна особенность Теккерея, которую он делит со всеми большими писателями и которая отличает его почти от всех его современников - это чувство реальности, проникающее во все его писания, реальности, о которой он помнит даже во время самых сумасбродных взрывов юмора. У него есть жизненный опыт, и более того: он о нем размышлял, чтобы еще и еще к нему вернуться. Жизнь, а не фантасмагория сцены и библиотеки - вот склад, где он находит свой материал. Мы уже замечали, что в его манере нет ничего театрального; то же следует сказать о его персонажах. Они все индивидуумы в правильном смысле этого слова, а не в том приблизительном смысле, который так ловко пародирует архидиакон Хэйр, как якобы принятый в современной литературе, с безошибочно найденными чертами живых людей, а не как абстрактные идеи или традиционные концепции характеров. Читая Теккерея, чувствуешь, что он пишет "с натуры", а не выдумывает, не роется в реквизите какого-то захудалого театрика.
Какое разнообразие характеров присуще книге, что лежит перед нами, и какие живые эти характеры! Возможно, не все они снобы, но разве не все реальны? И как соблазнительно для писателя пуститься в фарсовые невозможности, дать чистую выдумку, не пожалев на это юмора.
Беспристрастие, с каким автор раздает тумаки, - одна из забавнейших черт этой книги. Ему мало издеваться над богатыми и титулованными снобами, с тою же суровостью набрасывается он на сноба бедного и завистливого. Удачно показано, как нападки наемных писак на Белгревию, приправленные радостной гордыней, тут же сменяются у них взрывом горделивой радости, если Белгревии случится заметить их существование. На читателя, рассмеявшегося какой-нибудь нелепой картине, вдруг накидывается грозный сатирик и заставляет его признаться, что он, смеющийся читатель, при всем его презрении к снобизму, поступил бы точно так же, окажись он на том же месте {См.: Бодлер. "Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник...", "Читателю": Цветы зла, 1857. (Прим. автора.)}.
Думаю, что в искусстве, с каким это достигается, у Теккерея нет соперников. Другие сатирики льстят своим читателям, во всяком случае дают понять, что льстят, он же безжалостно сдерживает снисходительный смешок и обращает смех на смеющегося.
На свете никогда не было искусного юмориста, не наделенного одновременно способностью к пафосу. У Теккерея мы находим намеки, такие же восхитительные, как у Стерна или у Жан Поля, но обычно это не более как намеки. Он как будто сторонится горя и не предается "роскоши страдания". Впрочем, в "Ярмарке тщеславия" есть одно место, на котором он задержался, словно не мот остановить свое скорбное перо. Мы имеем в виду волнующее расставание Эмилии с ее сыном, которого она вынуждена отдать богатому Деду. Его мы должны привести, хотя читать его трудно - глаза недостаточно сухи. (Цитирует из гл. 50 то место, где Эмилия заставляет Джорджа прочесть ей историю Самуила.)
А как глубоко, почти яростно показан детский эгоизм, с каким Джордж принимает известие о предстоящей разлуке с матерью:
"Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу; она ждала, что он будет огорчен, но он скорее обрадовался, чем опечалился, и бедная женщина грустно отошла от него. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе!"
Но если вдаваться в детали, мы никогда не кончим. Воспользуемся же дежурной фразой "Произведения Теккерея стоит читать"... и перечитывать.
ДЖОРДЖ ГЕНРИ ЛЬЮИС
СТАТЬЯ В "ЛИДЕР" ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1850 ГОДА
"Ни одна эпоха, - сказал Карлейль, - самой себе не кажется романтической и ни одна эпоха не считает, что ее писатели равны тем, что были раньше".
"Даль, вот что виду прелесть придает" {Томас Кемпбелл. Радости надежды, 1799, I, 7.}, и от современной нам "поверхностной чепухи" мы отворачиваемся к тем, кто писал "поверхностную чепуху" своего времени. История литературы полна таких жалоб. Старый Нестор, обращаясь к своему знаменитому войску под Троей, не мог усмотреть в Ахилле, Аяксе, Диомеде и Агамемноне ничего, равного тем героям, что процветали в его молодости. Тацит в начале своего "Диалога об ораторах" (если это его сочинение) говорит о бесплодном времени, когда ни одного живого человека нельзя назвать оратором, ибо "наши мужчины ученые, болтуны, законники, словом, все что угодно, только не ораторы" (horum autem temperum discati causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores vocantur).
Что в наши дни люди невысоко ставят своих современников, по сравнению с писателями прошлых времен - это только естественно, и мы готовы увидеть недоуменно вздернутую бровь, когда заявим с полной серьезностью, что Англия еще не породила писателя, с которым Теккерей не выдержал бы сравнения. Другие превосходили его отдельными качествами, но если взять всю сумму его способностей как единственную мерку для сравнения, мы готовы твердо стоять на своем. Но сохранится ли он в веках подобно тому, как сохранились они? Это другой вопрос, и тут его нынешняя популярность может не помочь, ибо популярность, как замечательно выразился Виктор Гюго, это профанация славы.
La popularite? C'est la gloire en gros sous! {"Популярность? Это слава, размененная на медяки" (фр.). - Рюи Блаз, III, 4}
Теккерей обладает двумя великими свойствами, которые бальзамируют репутацию, - правдой и стилем, но от великих писателей прежних дней его отличает одна особенность нашего времени, и эта особенность ставит под угрозу прочность его славы: мы имеем в виду недостаток уважения к своему искусству, недостаток уважения к своей публике. В том тщании, с каким прежние писатели, как бы ни угнетала их бедность, задумывали и выполняли свою работу, мы видим нечто совсем непохожее на ту небрежность и уверенность в собственных способностях, которые заставляют его (и здесь он не одинок) приносить художника в жертву импровизатору. Насколько страдают от этого его писания, вычислить невозможно; можно только дивиться, что они так превосходны несмотря на это. Сплетничать с читателем, сворачивать с прямой дороги в приятные отступления и очерки общественных нравов - это легкий способ выполнять ежемесячную норму; а когда знаешь так много, а стиль такой изящный и подкупающий, успех так велик, что заставляет поддаваться соблазну. Но то, что пишется на час, может через час и погибнуть, а ведь он способен создавать и долговечные произведения.
В "Пенденнисе", пожалуй, этот недостаток заметнее, чем в "Ярмарке тщеславия", и интерес читателя, в результате, время от времени ослабевает. И все же это огромная, мастерская работа, полная знаний, озаренная прекрасными мыслями, едкая, тонкая, одухотворенная пафосом, оживленная несравненными картинами человеческой жизни и характеров и исключительная по стилю. Дух любви витает по всей книге, отнимает у сатиры всю горечь мизантропии, доказывает, что человеческая природа достойна любви несмотря на все ее изъяны. Так как эту книгу все либо прочли, либо прочтут в ближайшее время, нам незачем занимать место пересказом ее содержания; достаточно нескольких замечаний и общих слов об авторе и о том, каким он здесь предстал.
Для начала несколько слов о красоте его стиля. По ясности, силе, замечательному изяществу и разнообразию никто после Голдсмита с ним не сравнится. Это вообще не стиль в вульгарном смысле слова, иначе говоря, это не фокус. Это свободная одежда, которая облекает его мысли, и с каждым движением сознания принимает различные, но равно подходящие формы - простые в повествований, изысканные и сверкающие в эпиграммах, шутливые в разговоре или в отступлениях, вырастающие в ритмичные периоды, когда им овладевает серьезное настроение, и неописуемо волнующие в своей простоте, когда выражают трогательные или высокие мысли. Фокусов в нем нет, но искусство несомненно. Кто-то сказал, что в основе своей это стиль джентльмена. Хотели бы мы, чтобы джентльмены так писали.