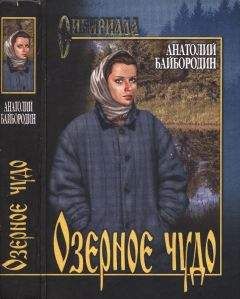— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречи-тыя Твоея Матери, и всех святых, помилуй нас…
Господи, все же дивится она, накатит же вдруг ни с того ни с сего, намаячит перед глазами, а что к чему, не понять. И хочется, чтобы ребятишки так и остались детьми малыми, не поганились зрелыми грехами, не скрывались с ее сторожащих, оберегающих глаз. И опять она смекает, что пустое блажит, — придет времечко, отчалят чадушки от избяного порога во взрослую жизнь с ее грехами и скорбями, а она попрощается с белым светом; и не привяжешь время к стойлу словно корову дойную, шалой кобылицей полетит время, и не поспеют глазом сморгнуть, как и их век закатится. Ох, и не столь нарадуются, сколь настрадаются…
…Пройдут долгие годы, и осиротевший Иван запишет: «…Мама, Царствие тебе Небесное, прости, Господи твои прегрешения, вольные и невольные, — мама, вижу тебя, склоненную над голубичником; вижу лицо твое, разглаженное лесной благостью; вижу, как ты перекрестилась Богу, еще неведомому мне, прошептала молитву и, незримая, навсегда осталась в густо настоянном, душистом лесном воздухе, среди солнечных бликов…»
Ребятишки, оглянувшись, видят, что мать замерла и неподвижно, отстраненно следит за ними, и тоже замирают, тревожно и вопросительно уставившись на нее. Мать тут же глубоко вздыхает, встряхивает головой, чтобы отпугнуть наваждение, потом ободряюще улыбается ребятишкам, и те снова прыгают впереди матери, — ну, впрямь чистые бычок с телочкой, недавно отбитые от коровьего вымени и пущенные на вольный степной выпас, да вот и залетевшие сдуру в лесную чащобу. Разыгравшись, Ванюшка с Веркой начинают подмазывать лица голубикой и, прячась за толстыми лиственницами, пугать матушку, с криком вылетая прямо на нее; потом кажут друг другу языки, темно-синие от ягоды, и мать с улыбкой смекает, почему ребячьи котелки пусты и куда ребятки девали голубику.
Найдут наконец хваленый курешок, а он не гуще материного, словно именно тот, какой пыхнул в ребячьи глаза сизо-голубым, плавающим и мерцающим туманом, давно уже снялся с земли и улетел из леса.
— Вот сразу бы пошли и… — Ванюшка не успевает досказать —…и застали бы ягоду здесь, — потому что слова его тонут в Вер-кином плаче.
— Может, шли да промахнулись?., может, где в другом месте? — спрашивает мать, но Ванюшка мотает головой и горькими глазами показывает на причудливую березу, — похоже, молния угодила, и лесина лопнула посередине и, уткнувшись вершиной в мох, вздыбилась коромыслом да так и остыла навечно; рваная рана с летами потянулась смолой, заросла, и калешная береза в одну из весен опять зазеленела, а потом из ее матерого ствола потянулись к прямые, навроде молоденьких берез, гладкие сучья, с курчавыми, тонкими вершинками.
Осердится мать на ребят, что с насиженной поляны сорвали — за ее курешком и дальше виделась ягода, — что ноги попусту убивает да время без пути теряет, но ругать не ругает, видя, что глаза ребят, удивленно, напуганно и беспомощно блуждающие по голубичнику, готовы вот-вот отсыреть слезами. Покачает головой да с печальной усмешкой укорит их, непутных, и наставит на ум.
— Синым-синё… Сидели бы уж лучше да помалкивали в тряпочку… Ой-ё-ёшеньки, казь ты моя Господи… Раз нашли, почо же реветь лихоматом?! От ягодку-то всю и распугали…
Ванюшка с Верой, на минуту забыв о своем горюшке, слушают мать, широко распазив глаза и отпахнув рты: в диковину им материна беседа, потому что, крутясь как белка в колесе по дому, по скотному двору, так что некогда и перевести дух, редко она судачит с ребятами вот так ласково, доверительно, с праздничной улыбкой.
— Она же, ягодка-то, милые мои, о-о-ой какая капризная. Ши-ибко не любит, когда к ней с наскоку, с набегу, когда ревут над ей лихоматом. К ей же, ребятушки-козлятушки, надо тихо-охонько, лего-охонь-ко подходить, с поклонцем. Так меня тятя учил, Царствие ему Небесное… Поклон-то она уважат… А как нашел, дак тоже горло не дери, — неровен час, спужнешь, спод самых рук улетит, тока ее и видали. Так от…
Мать развязала на поясе широкий плат, где береглась горбуха ржаного хлеба (бутылка молока топорщилась горлышком из ягоды в ведре), потом, вроде не замечая разгоревшихся ребячьих глаз, приладила платок половчее и опять завязала хлеб на животе.
— Бери себе втихомолочку да спасибо говори Боженьке — не забывай. Вот… Другие-то себе и сами, поди, найдут — лес большой, ягоды полом, всем за глаза хватит, только не ленись. А уж тебе Бог дал — бери, головой не верти. Или уж, ладно, мне на ушко шепни, а уж я ходом прорву до ягоды…
Мать весело подмигивает Ванюшке и пристраивается к голубичнику половчее, как будто с подойником к вымени коровы Майки, потом начинает брать, разгоняясь н разгоняясь руками, замысловато кружа ими, точно привораживая и ластясь, приманивая ягоду к пальцам. Ванюшке, зачарованно следящему за материными руками, так и кажется, так и видится, что ягода синими струйками течет сквозь мельтешащие материны пальцы прямо в ведро, где уже бугрится у самых ведерных полосок; и голубика чистенькая, без единого листочка, синеватая, в сизом туманце.
— Ну, ладно, хватит лясы точить, пора и за дело браться. Присаживайтесь-ка подле меня и берите. Неча по лесу хвостаться. А то ежлив такие вырастете — в поле ветер, в заде дым — дак и всю жизнь пробегаете, задрав шары, и жизни путем не увидите. Тоже улетит, навроде ягоды…
Мать наговаривает то ли самой себе, то ли ребятам, а уж вовсю берет голубицу и берет не глядя, словно видя ее пальцами, что за полвека — в трудах от темна до темна — стали зрячими. Говорок ее все тонынает и тоныпает, обращаясь в паутинку, потом и вовсе гаснет. У ребят же после материных слов, как роса погожим утречком, тут же просыхают выпавшие на глаза крупные, с Ягодины, слезы. Косясь на материны проворные руки, выдаивающие ягодник, Ванюшка с Веркой тоже начинают брать; вначале поклевывают там-сям, как цыпушки пшено, а потом пальцы мягчеют, разгоняются, и дело идет быстрее.
— Ну, ничо, ничо, шибко-то не переживайте, нам и этого хватит за глаза, и на том спасибо Боженьке, — утешает мать, чтобы подбодрить ребятишек, чтоб не сбилась охотка и снова куда ни кинулись, — Вот так берите живо, а то, гляжу, и небо морочает, как бы дождик не прихватил… Да ты, сына, куст-то не мни, не ломай — на другой год, глядишь, опять сюда же привалим, а ягодка вот она, поджидат нас. А то кого же ты всем животом навалился на ягодник. В наклонку-то тяжело?.. Молодой еще, молодой на карачках-то полозить возле ягоды. Это еще мне, старухе, куда ни шло… Прямо, всю поясницу изломало — к дождю, ли чо ли?.. Не дай бог дождя, и так залило… Счас-то хошь ладно, греет маломало… Вот ягодка и пошла… 0-ой… — вздохнула мать, — сколь мы ее раньше перебрали, дак вам и не снилось, — бочками набивали… Ты, сынок, слушай-то слушай, да и руками шевели… Шу-ура!.. Шу-ур!.. — кличет мать свою старшую, а когда она отзывается, продолжает поминать ранешнее. — Вот, значит… Тятя-то наш коня запряжет, три кадушки на телеге привяжет, потом нас, девок, насодит, да и в тайгу с песнями. А там уж гаевунами[8] били… Счас-то с гаевунами делать некого, лист сшибать, — нет путней ягоды… нету, чо и говорить… Ранесь ее пошто-то много было — раз-другой гаевуном фуркнешь, вот те и ведро. Потом на поляне холстину или брезент расстелишь пошире, да и веешь ягоду на ветру. Красиво глядеть: как дождь синий льет, когда голубицу из ведра сыпешь на холстину. Посвистывам ишо, бывало, — ветерок подманивам. Ежлив ладный-то ветерок, дак лист весь на сторону и отлетат, а ягодка чистенька… И так, бывало, навеешься, что в глазах синё. И ночью-то спишь, и всё перед глазами навроде синий дождик…
Говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка березовой листвой шелестит песня:
Ой да, развесе-е-елое-е было то вре-е-емя-а,
Да ли, когда мил, о-ой, когда мил-то меня лю-убил,
Когда ми-и-ил-то меня люби-ил.
Ой да теперь, о-ой, тепе-е-еря-а-то он меня не любит…
Ванюшка сперва не может понять, откуда веет тихая песнь, оглядывается, потом чутко замирает и, увидев, что напевает мать, — она едва шевелит отмягшими губами, — тут же смущенно склоняется к голубичнику. А песнь, раскачиваясь, вытягиваясь на звуках, грустно подрагивая, то гаснет, то опять запаляет-ся, сладостной печалью щемит и щемит Ванюшкино сердце, и парнишке — стеснительно опустившему глаза долу, словно он негаданно подглядел что-то сокровенное, потайное, — никак не верится, что поет мать, что это ее голос, мягкий и нежный, совсем не такой, с каким она жила в будни и голосила за хмельным столом. Чудилось, и лес, и голубичник поют вместе с ней, или даже вместо нее. И от всего этого мать, привычная, незамечаемая, становится далекой-далекой и загадочной…
Да ли он сме-ё… ой, он смеется на-а-адо мно-ой,
Он сме-е-ется да надо мно-ой,
Ой да, он сме-ё… ой, сме-е-ется да-я надо мно-ой,
Да ли, над девчо-о… ой, над девчонкой моло-о-одой…
Час ли проходит, полчаса ли, Бог знает, а ребятам, завлеченным ягодой, кажется — одно синевато промерцавшее перед глазами мгновение, а уж мать кличет Шуру, и когда та приходит с полным ведром голубицы, усаживается на сухое место под кряжистой сосной, потом из платка, подвязанного на животе, вынимает добрую горбуху хлеба и, разломив ее на четыре ломтя, выкладывает себе на подол и тут же пристраивает варенные в мундире картошины, яйца вкрутую, потом развязывает цветастую тряпицу с солью, и уж затем откуда-то из-под кустика, из тенечка, выуживает бутылку с молоком.