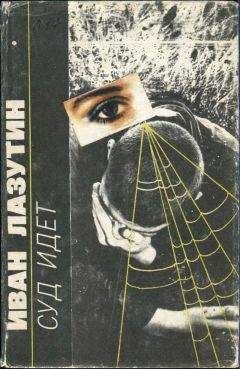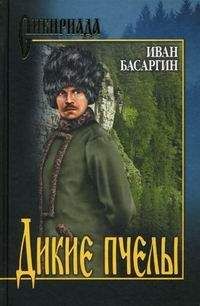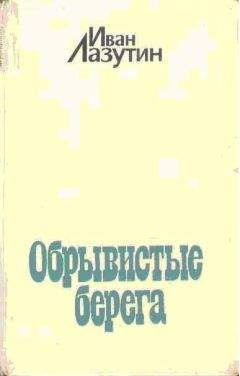Шадрин сдержанно возразил.
— Насколько я помню, у Иванова тоже была семья, жена, мать-старуха, трое детей, сам он работал всего-навсего грузчиком. Он воровал от нужды, а здесь — роскошь, разврат, купались в шампанском и закусывали ананасами.
— Остановитесь, Шадрин! Вы путаетесь в вещах, в которых отчетливо разбирается студент первого курса. Не вам же мне повторять в третий раз, что не материальная нужда, не нищета являются в нашей стране источником преступления. Эта точка зрения на происхождение преступности применительна только к буржуазному обществу. — Богданов с минуту помолчал, потом проникновенно и гневно продолжал: — Разве я не вижу, что вся эта четверка — мерзавцы и негодяи! Но учтите также и то, что райком партии вряд ли поддержит нас за такую строгость. Были уже звонки.
С каждой минутой Шадрина все сильнее и сильнее охватывало раздражение. Он чувствовал, что скоро ему начнут читать популярную лекцию о том, что такое социалистическая законность и что коммунистическое общество лучше капиталистического.
— Какие будут последние указания?
— Учитесь прислушиваться к совету старших и выполнять то, что рекомендует начальство.
— Конкретно?
— К этой четверке отнеситесь гуманней, когда будете писать обвинительное заключение.
— Мотивы?
— Я вам назвал их. А потом вы же прекрасно знаете, что львиная доля всех прибылей от спекулятивной продажи шла Баранову.
Дмитрий смотрел на отлетевший рант на своем стоптанном ботинке и, угрюмо нахмурившись, молчал.
— Можно подумать, что вы решаете вопрос жизни и смерти изменников Родины, — попытался шутить Богданов.
— Я на это не могу пойти, товарищ прокурор, — тихо произнес Шадрин.
— Почему? — Губы Богданова сжались, словно от боли.
— Я уверен, что по делу этой четверки, а в особенности Анурова, суд применит меру наказания по Указу от четвертого июня. И нам придется краснеть за свою излишнюю гуманность.
— Товарищ Шадрин, — Богданов отечески улыбнулся и покачал головой. — Я уже двадцать лет работаю в органах прокуратуры. Вы понимаете — двадцать лет! Начал с секретаря. Вы же всего-навсего без году неделя за этим столом. Я — прокурор. Вы — только следователь.
— С подобной субординацией я знаком уже давно, еще в Пинских болотах на Белорусском фронте!
— Кем вы воевали?
— Офицер разведки.
— Это видно. Все разведчики — анархисты.
— Мне об этом никогда не говорили.
— Вы много рассуждаете.
— Я отвечаю на ваши вопросы.
— Вы должны выполнять мои указания.
— В пределах, предусмотренных законом.
Богданов снова заложил правую руку за борт своего прокурорского кителя, откинул назад голову и замер на месте, пристально рассматривая Шадрина.
— Что ж, мое дело предупредить, рекомендовать, ваше — выполнять или не выполнять. Вы свободны. Не забудьте, завтра вечером партийное собрание. На повестке дня стоит вопрос о работе молодых специалистов. Будьте благоразумны. — Богданов сел в кресло и, не глядя на Шадрина, отодвинул в сторону дело Анурова.
Шадрин вышел из кабинета прокурора. Только теперь он по-настоящему понял, что все, чему его учили в университете, — все это профессорские сказки, над которыми здесь, на практике, смеются старые работники, когда этими сказками руководствуются молодые специалисты.
Вечером состоялось партийное собрание. Пришел на собрание инструктор из райкома партии и представитель из прокуратуры города — тот самый товарищ, который полгода назад, на Государственной комиссии, во время распределения направил Шадрина работать в прокуратуру.
Первым вопросом в повестке дня стояло: «Подготовка к предстоящим выборам в Верховный Совет». С докладом по этому вопросу выступал секретарь партийной организации старший следователь Бардюков.
Многолетний опыт прошлых предвыборных кампаний настолько был знаком всем, что распределение обязанностей среди коммунистов прокуратуры прошло без малейших заминок — каждому уже не раз приходилось работать и агитатором, и пропагандистом, и непосредственно на избирательном участке.
Шадрину было поручено возглавить бригаду агитаторов по избирательному участку, над которым шефствовала парторганизация прокуратуры.
Пока решался первый вопрос, Богданов сидел за своим столом, покрытым зеленым сукном, и писал. Инструктор из райкома партии, низкорослый парень в серой гимнастерке, внимательно слушал Бардюкова и время от времени что-то заносил себе в блокнот. Иногда в знак согласия он покачивал головой — это было в те моменты, когда докладчик натыкался на него взглядом. И вообще чувствовал себя инструктор хозяином собрания. Чтобы придать своей особе важность и осанку ответственного работника, он поминутно поглаживал гладко выбритую голову и выгибал шею, в которую врезался белый целлулоидный воротник серого кителя.
Представитель из прокуратуры, Варламов, сидел в жестком кресле у окна и время от времени украдкой зевал, аккуратно прикрывая рот ладонью. В повестке дня его интересовал второй вопрос — работа молодых специалистов. На опыте районных прокуратур, куда за последние пять лет было направлено много молодых специалистов, он должен через месяц сделать обстоятельный отчет прокурору города. В прокуратуру, где работал Шадрин, за последние два года направили трех молодых специалистов, которые сидели тут же на партийном собрании. Только одного Шадрина Варламов запомнил в лицо. Курьезный случай при распределении, когда ему, конкурируя, пришлось «отобрать» выпускника Шадрина у представителя Моссовета, врезался в память. А главное, Шадрин запомнился своей смелой убежденностью и независимостью в суждениях.
Вот и теперь, рассматривая лица сидящих на собрании, он снова и снова возвращался памятью к Шадрину. Чем-то — а чем, он даже не мог понять — нравилось ему его худощавое бледное лицо с твердыми чертами.
С Варламовым Дмитрий поздоровался еще в начале собрания, когда тот разговаривал с прокурором. По лицу Варламова Шадрин понял, что тот, узнав его, о чем-то хотел спросить, но, передумав, только с улыбкой кивнул головой и снова повернулся к прокурору.
Когда приступили ко второму вопросу, Варламов заметно оживился. Громко откашлявшись, он обвел взглядом сидящих в кабинете. Богданов кончил писать. Первым, на кого упал его взгляд, был Дмитрий Шадрин.
По второму вопросу докладывал помощник прокурора Наседкин. Его недолюбливали. Это был бесхарактерный человек, на стол которого кто-то однажды положил лист бумаги, на котором крупными буквами было выведено: «И нашим и вашим, поплачем и спляшем». Выше надписи была нарисована карикатура, изображавшая Наседкина.
С первых же слов Наседкина Шадрин понял, что с тезисами его выступления Богданов не только знакомился, но сам их продиктовал ему.
Сделав небольшое вступление, Наседкин перешел к персональным характеристикам молодых специалистов, которые были направлены в их прокуратуру за последние три-четыре года.
Второй год работал следователем Артюхин. В прокуратуру он был направлен после окончания двухгодичной юридической школы. Более неграмотного и ограниченного человека Дмитрий в жизни своей не встречал. Как-то раз — это было в первый месяц работы Шадрина — старший следователь Бардюков дал ему текст обвинительного заключения, попросив поправить ошибки и «выровнять стиль». Дмитрий принялся читать этот документ и вначале, грешным делом, даже подумал: «Испытывает. Хочет сыграть морскую шутку». И тут же, не дочитав до конца обвинительное заключение, возвратил его Бардюкову.
— Хотя я и салажонок в следственном деле, но якорь точить не собираюсь.
— Какой якорь? Ты что? — удивился Бардюков.
И Дмитрий рассказал, как на флоте разыгрывают новичков:
— Придет эдакий восемнадцатилетний юнец на корабль, и все ему в диковинку, на все смотрит широченными глазами, приказание старших выполняет сломя голову. И вот вызывает такого салажонка старый матрос, дослужившийся до шеврона — на флоте старослужащих называют «сундуками», — и говорит: «Иванов, якорь затупился. Ваше решение?» Тот стоит и моргает глазами и не знает, что ему нужно делать. А старый матрос в сердцах покачает головой и начнет отчитывать: «Эх ты, зелень сухопутная! Не можешь сообразить. На, иди поточи!» И подаст новичку подпилок. Тот козырнет и летит на кормовую часть корабля, где многотонной громадой раскорячился якорь. Усядется этакий салажонок — Иванов, Петров, Сидоров — у якоря и точит… Точит его старательно, а самая маленькая грань у якоря — как у слона нога. Часа через два осенит его догадка, вот он и плетется назад под свист и хохот старой матросни. На лице обида, стыдится, а жаловаться на флоте не положено — без шутки моряку жить нельзя Вот так-то, товарищ старший следователь, и вы со мной хотели подшутить.