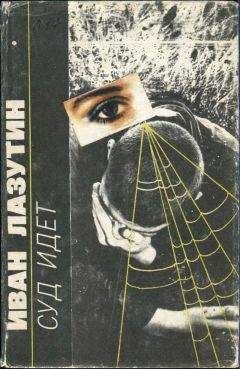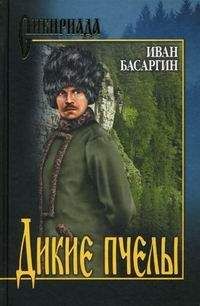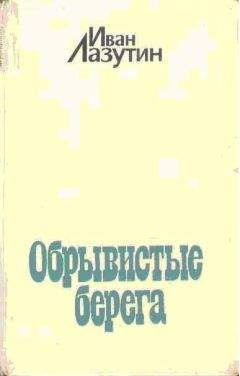Не раз Кобзев присутствовал, когда допрашивал Шадрин. Молодой следователь интересовал его с самого первого дня работы в прокуратуре. Впервые Кобзев пошел к нему на допрос с мыслью о том, чтобы потом, в особом разделе диссертации, где он будет рассказывать об ошибках молодых следователей, привести новые примеры неопытности и недостаточного знания жизни и приемов допроса.
Тогда Шадрин допрашивал опытного рецидивиста, задержанного за соучастие в ограблении депутата Верховного Совета. Кобзев никак не ожидал (он даже не придал этому особого значения), что на детали политического характера Шадрин построит весь свой допрос. Вначале он подавил преступника, впервые ограбившего представителя власти, известием о том, кто ограблен. Потом стал бросать на него хитрые сети обещаний и надежд на снисхождение: в случае чистосердечного признания депутат имеет право облегчить участь подследственного. Еще несколько точных и умело поставленных вопросов — и допрашиваемый признался, назвав основного грабителя. Других материальных улик для раскрытия этого преступления не было. Было одно подозрение.
С этого допроса Кобзев ушел обуреваемый новыми мыслями, новыми догадками. Он тут же кинулся в Ленинскую библиотеку и по свежим следам, по памяти, восстановил допрос Шадрина, вчерне набросав новый раздел: «Политическая конъюнктура во время допроса».
С тех пор Кобзев не раз бывал на допросах у Шадрина. Скрывая цель посещений, он всякий раз восхищался его точной, продуманной работой, которая коренилась на особом приеме молодого следователя, умеющего быстро оценивать обстановку и неожиданно перестраивать всю тактику допроса. Кобзев любовался работой Шадрина и приходил к твердому выводу: для того чтобы быть хорошим следователем, кроме ума и опыта, нужно обладать талантом аналитического проникновения в душу подследственного. Проникнуть в эту душу не затем, чтобы только понять, какая эта душа, а чтобы заставить эту душу сказать то, чего требует материальная истина: правду, признание. Кобзев видел, что Шадрину это удавалось легче и тоньше, чем другим, даже опытным следователям. И вот теперь он, диссертант Кобзев, сидит на партийном собрании и слушает, как малограмотный, ограниченный Наседкин, который прожужжал всем уши своими рассказами о том, что в их времена университетов в деревне не было, что учились они за меру картошки… как этот самый трусливый Наседкин топчет в грязь то, что нужно отделить, приподнять на руки и сказать другим: «Вот! Смотрите, как нужно работать! А ведь человек всего-навсего полгода на оперативной работе».
Наседкин закончил доклад заверением, что в своей повседневной работе они отдадут все силы на то, чтобы оправдать перед партией и правительством высокое звание советского юриста.
В прокуренном кабинете прокурора — не выручала даже широко открытая форточка — застыла тишина. Никто не смотрел в глаза друг другу. Все чувствовали, что Наседкин перегнул, что нельзя так, как обухом по голове, ошарашивать молодого следователя. Тем более, кроме хорошего, никто о Шадрине в прокуратуре за полгода работы не говорил.
Наседкин оглядел сидящих и перешел к прениям. Снова в глухом кольце замкнулась тишина. Было только слышно, как булькала вода из горлышка графина, бьющегося о стакан в дрожащих руках Наседкина.
— Что же мы молчим, товарищи? Разве нам не о чем сказать? Вот вы, например, товарищ Артюхин! Что вы можете сказать о своей работе и как вы считаете критику в ваш адрес и в адрес ваших товарищей — справедливой или несправедливой?
Артюхин, обжигая сигаретой пальцы, растерянно моргал. Опираясь на палочку, он встал.
— Я считаю, товарищи, что критика помощника прокурора в адрес молодых специалистов была совершенно справедливой.
Наседкин сделал резкий жест в сторону секретаря собрания. Этот жест означал: «Нужно обязательно записать!»
Артюхин продолжал:
— Нам, молодым следователям, и особенно, как это видно из доклада, товарищу Шадрину следует учесть в своей дальнейшей работе и не допускать впредь тех ошибок, которые мы допускали. Что касается меня, то я могу заверить партийное собрание, что постараюсь улучшить свою работу и изжить недостатки, которые у меня имели место.
— Самокритично! Вполне самокритично! — приободрил его Наседкин, с некоторой опаской посматривающий в сторону завозившегося в углу Кобзева, от которого он мог ожидать всего.
Когда Артюхин сел, Наседкин обратился к Кобзеву:
— А вы, товарищ Кобзев, что желаете сказать в ответ на оценку вашей работы, а также работы ваших товарищей?
Кобзев сидел с опущенной головой и не подавал признаков, что он слышал вопрос Наседкина.
— Я обращаюсь к вам, товарищ Кобзев. Как вы относитесь к критике и что вы можете предложить для дальнейшего улучшения?
Кобзев, лениво раскачиваясь, встал. Насмешливые огоньки в его глазах заплясали зло и желчно. Этот взгляд всегда смущал и выводил из себя Наседкина.
— То, что я слышал сейчас в пространном докладе помощника прокурора, мне почему-то напоминает прием древних софистов, которые могли белое представить черным, а черное — белым.
Прокурор, которому не понравилась эта эзоповская форма выражения мысли, раздраженно оборвал Кобзева:
— Конкретней, Кобзев! Здесь вам не семинар по логике. Все знают, что вы строчите диссертацию и наизусть выучили много мудрых слов. Говорите о деле, яснее и проще.
Слова Богданова подлили масла в огонь. Вспыльчивый по характеру, Кобзев не в силах был сдерживать поднимающегося в нем возмущения.
— Хорошо, я скажу просто. Доклад Наседкина мне не понравился. Фальшивый он. От начала и до конца фальшивый. Разумеется, как у следователя молодого, у Шадрина есть некоторые ошибки. Но представить его на партийном собрании в таком ложном и неблаговидном свете — это несправедливо. Это не критика, а дубина! Шадрин — талантливый и грамотный следователь. И не он ходит учиться составлять документацию к Наседкину, а Наседкин в день по семь раз бегает к Шадрину и поручает ему оформлять наиболее ответственные документы. — Кобзев передохнул и осмотрел сидящих. — Что касается Артюхина, которого здесь хвалили, то я бы лично от этих похвал воздержался. Это пока еще не следователь. Почему? Все знают. Чтобы постичь высшую математику, нужно освоить элементарную школьную арифметику. А Артюхину, как и товарищу Наседкину, нужно начинать с элементарной школьной грамматики. С азов человеческой культуры.
— Расскажите лучше о себе! — вставил реплику прокурор.
— Что я могу сказать о себе, когда меня сегодня так старательно хвалили? Работаю, строчу, как вы выразились, диссертацию и заучиваю мудрые латинские слова.
Кобзев сел. Пальцы его рук дрожали. Теперь он чувствовал, что перехватил через край. Но было уже поздно. Незримая, тайная война между ним и помощником прокурора теперь уже перешла в открытую. И первым войну эту начал он, подчиненный Кобзев. Он уличил начальника в безграмотности, в непорядочном отношении к своему подчиненному Шадрину.
— Кто еще хочет выступить? — обратился к собранию Наседкин, настороженно посматривая в сторону Варламова.
Все молчали. Через полуоткрытую дверь было отчетливо слышно, как уборщица тетя Фрося с кем-то разговаривала по телефону. По лицам всех пробежала легкая улыбка. Тетя Фрося разговаривала с кем-то из своих знакомых, которых, судя по ее ответам, притесняет и оскорбляет соседка по квартире.
— А вы что сидите?! Напишите прокурору заявление, пусть подпишутся свидетели, и ему вляпают семьдесят четвертую наверняка. Да, да, как пить дать семьдесят четвертая по нем, пьянчуге, плачет. Только чтоб свидетели были обязательно хорошие люди.
Все знали, что тетя Фрося совершенно неграмотная. Крест против ее фамилии в ведомости у кассира всегда смешил всех в день получки. А тут смотрите-ка… Сама квалифицирует по Уголовному кодексу нарушение общественного порядка.
Прокурор жестом попросил Артюхина закрыть дверь.
Тот как по команде вскочил и, скрипя протезом, кинулся к дверям.
— У меня есть несколько слов по докладу, — не вставая, с расстановкой сказал Богданов. — Я внимательно слушал товарища Наседкина и считаю, что он объективно и с партийной справедливостью рассказал о работе молодых специалистов. Хотя и ершились вы сейчас, товарищ Кобзев, защищая Шадрина… Я понимаю, это, конечно, похвально, когда товарищ вступается за товарища по работе. Однако, как прокурор, я заявляю, что работой Шадрина я недоволен. И скорее всего не столько работой, сколько тем взаимоотношением, какое у него сложилось со старшими товарищами. И правильно здесь отмечал Наседкин, что многому ему следует учиться у Артюхина. Учиться скромности, учиться строгой исполнительности и тому такту, который необходим, когда разговор идет о рабочей, трудовой дисциплине. Да, Шадрин с отличием закончил университет, у него где-то, когда-то были даже напечатаны научные статейки, у него в дипломе в графе «Специальность» стоит — «Научный работник в области юридических наук». Все это похвально, отлично. — Богданов притушил в пепельнице папиросу и, словно что-то обдумывая, тихо продолжал: — Но, честно признаться, встречали мы иногда ученых мудрецов с университетскими дипломами. Все мы помним Сысоева, который тоже окончил университет и был направлен работать в нашу прокуратуру. Я никогда не забуду, как в личной беседе со мной он заявил, что работа следователя — это не его удел, что он научный работник в области юридических наук, а не белый негр. Быть следователем с его высшей квалификацией юриста — это, как он выразился, бить из пушек по воробьям. А что получилось на деле? — Богданов развел руками. — Шарлатан, хвастунишка и бездельник! Он в подметки не годился тем ребятам, которые пришли из двухгодичной юридической школы. А недавно до меня докатился слух, что из нотариата Сысоева тоже прогнали. А все с чего началось? С самомнения! С яканья, с неуважения к старшим, которые, слава богу, на практической работе зубы съели.