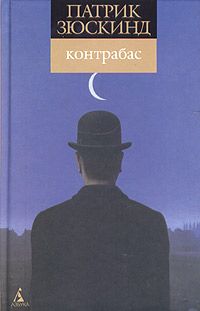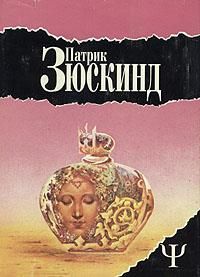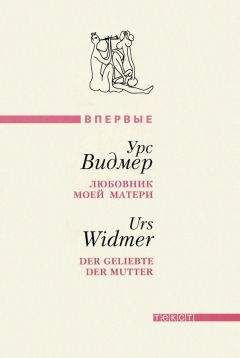коленях и распрямился позвоночник. И он ощутил, как отставленная правая нога как бы сама собой подтянулась к левой, левая нога повернулась на каблуке, правое колено согнулось для ходьбы, а потом левое и снова правое… и вот он уже переместил одну ногу, вторую и в самом деле пошел, нет, резво побежал, преодолев одним прыжком три ступени, вдоль стены к воротам, поднял решетку, принял стойку, молодцевато поднял руку к козырьку фуражки и пропустил лимузин. Он проделал все это совершенно автоматически, без всякого участия воли, отстраненно регистрируя сознанием свои движения и жесты. Единственным выражением его личного участия в событии был злобный взгляд, которым он проводил ускользающий лимузин месье Ределя, и множество немых проклятий.
Но потом, когда он снова вернулся на свой пост, в нем угасла и эта злость, последний личный импульс. И пока он механически взбирался на третью ступень, иссяк остаток ненависти, и наверху его глаза уже не источали ни яда, ни сарказма и глядели вниз на улицу тупо и безразлично. Словно эти глаза больше не принадлежали ему, а он сидел за ними и смотрел сквозь них, как сквозь мертвые круглые окна; да и все его тело казалось ему не своим, а то, что осталось от него, Ионатана, был крошечный, сморщенный гном, ютившийся в огромном здании чужой плоти, как беспомощный карлик внутри слишком просторной, слишком сложной человеческой машины, которой он не может больше управлять и которая управляется, если вообще управляется, сама собой или же какими-то неведомыми другими силами. Он опять тихо стоял у колонны, но теперь, потеряв невозмутимость сфинкса, он превратился в марионетку, которую за ненадобностью отставили в сторону или повесили на гвоздь. Так простоял он еще десять минут своего служебного времени, пока ровно в семнадцать тридцать у внешней бронированной двери не показался на момент месье Вильман и не крикнул: «Закрываем!» Тут марионеточный человеческий механизм Ионатан Ноэль послушно пришел в движение, вошел в банк, встал у пульта электрического устройства для закрывания дверей и начал попеременно нажимать на обе кнопки – для внутренней и для внешней бронированной двери, чтобы по принципу шлюза выпустить из банка служащих; потом он вместе с мадам Рок запер огнеупорную дверь в хранилище, каковое предварительно было закрыто мадам Рок совместно с месье Вильманом, вместе с месье Вильманом врубил сигнальную систему охраны, снова отключил электрическое устройство для впуска, вместе с мадам Рок и месье Вильманом покинул банк и после того, как месье Вильман закрыл внутреннюю, а мадам Рок – внешнюю стеклянную бронированную дверь, согласно инструкции, запер раздвижную решетку. После этого он отдал легкий деревянный поклон мадам Рок и месье Вильману, открыл рот и пожелал им обоим доброго вечера и удачного уик-энда, с благодарностью выслушал, со своей стороны, наилучшие пожелания уик-энда от месье Вильмана и «До понедельника!» мадам Рок, подождал, как положено, пока оба не удалились на несколько шагов, и тогда влился в поток прохожих, чтобы дать увлечь себя в противоположном направлении.
Ходьба успокаивает. В ходьбе есть целительная сила. Равномерное перемещение ног, одна-другая, одна-другая, одновременные ритмические взмахи рук, ускорение частоты дыхания, легкая стимуляция сердечной деятельности, активность зрения и слуха, необходимая для определения направления и сохранения равновесия, прикосновение к коже прохладного воздуха – все это явления, непреоборимым образом совмещающие тело и дух, от которых может воспрянуть и расшириться даже опечаленная и угнетенная душа.
Так оно и произошло с расстроенным Ионатаном, этим гномом, оказавшимся в слишком большом для него кукольном теле. Постепенно, шаг за шагом, он снова дорос до размеров своего тела, заполнил его изнутри, явно им овладел и наконец полностью с ним слился. Это было примерно на углу улицы дю Бак. И он пересек улицу дю Бак (а Ионатан-марионетка наверняка повернул бы здесь автоматически направо, чтобы привычной дорогой попасть на улицу де ла Планш) и оставил слева улицу Сент-Пласид, где находился его отель, и двинулся прямо к улице Аббата Грегуара, потом вверх по этой улице до улицы Вожирар, а оттуда к Люксембургскому саду. Он вошел в сад и сделал три круга по самой дальней, самой длинной дорожке, по той, где бегают трусцой под деревьями у самой решетки; потом повернул на юг и поднялся вверх к бульвару Монпарнас и дальше к кладбищу Монпарнас, и обошел вокруг кладбища, раз и другой, и двинулся дальше в Пятнадцатый округ, прошел весь Пятнадцатый до Сены и двинулся вверх по Сене к северо-востоку в Седьмой округ и дальше – в Шестой, и все дальше и дальше – летом вечера такие длинные, – и снова повернул к Люксембургскому саду, а когда дошел, сад как раз закрывался. Он остановился у решетки больших ворот, слева от здания Сената. Сейчас, наверное, около девяти, но все еще светло как днем. Предстоящая ночь давала о себе знать лишь нежно-золотистой окраской света и фиолетовыми краями теней. Поток автомобилей на улице Вожирар начал иссякать. Масса людей растеклась. Небольшие группки на выходах из парка и углах улиц быстро рассыпались и исчезали в виде отдельных фигур в многочисленных переулках вокруг театра Одеон и церкви Сен-Сюльпис. Люди шли на аперитив, шли в ресторан, шли домой. Воздух был мягким, пахло цветами. Стало тихо. Париж ел.
Он вдруг почувствовал, как устал. Ноги, спина, плечи болели от многочасовой ходьбы, подошвы горели. И еще он внезапно проголодался, так сильно, что свело желудок. Ему захотелось съесть супа, салата со свежим белым хлебом и кусок мяса. Он знал здесь поблизости один ресторан, где все это было, комплексный обед за сорок семь франков, включая обслуживание. Но не мог же он отправиться туда в таком состоянии, весь пропахший потом, в разорванных брюках.
Он решил вернуться в отель. По дороге, на улице д’Асса, была еще открыта тунисская продуктовая лавка. Он купил банку сардин в масле, маленькую головку козьего сыра, грушу, бутылку красного вина и арабский хлеб.
Номер отеля был еще меньше, чем комната на улице де ла Планш: в ширину едва ли шире входной двери и метра три в длину. Разумеется, стены не располагались перпендикулярно друг к другу, но – если смотреть от двери – расходились под косым углом, пока не расширяли помещение метра на два, чтобы затем снова устремиться друг к другу и соединиться. Таким образом, комната имела горизонтальную проекцию гроба и была не намного просторнее, чем гроб. У одной длинной стены стояла кровать, на другой длинной стене висел умывальник, под ним – шаткое биде, напротив двери –