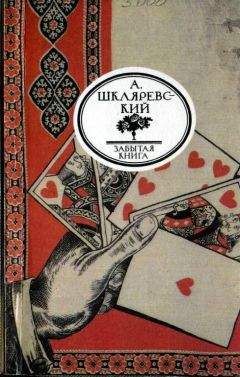красные слезящиеся глаза были страшны; исхудалые кисти дрожащих рук, с напрягшимися и выдавшимися синими жилами, – были отвратительны. В старухе нельзя было узнать не только прежней молодой красивой барской кормилицы, но даже и Демьяновны, проживавшей у Масоедова в Петербурге.
– Ну, что скажешь, старая? – спросил ее Масоедов.
– Ох! Нет уж, барин, позвольте мне, – отвечала Демьяновна, шамкая, – сначала присесть. Сил моих нет… Уморилась…
– Садись.
– Как же, батюшка, ваши дела? – спросила сама Демьяновна, усевшись в первое кресло и забыв отвечать на вопрос барина.
– Плохо, старуха. Ясное дело, что злодей похож на Пархоменка, познакомился с ним, порасспросил все подробно и, вероятно, убил, чтобы отнять у него документы. Но как доказать это – ума не приложу, а тут за него вступаются, дураки…
– Слышала, батюшка, слышала…
– В том же, что это действительно наш Ксенофонт, – продолжал Масоедов, – я нисколько не сомневаюсь.
– Он, он, Митрофан Александрович, – подтвердила старуха, – я это верно знаю.
– Верно знаешь… – с величайшим изумлением вскрикнул Масоедов. – Почему же?
– О-о! Крепко я виновата, барин. Христа ради, простите… Пустите старые кости на покаяние…
– Ну!
– Давно бы мне следовало все рассказать вам. Да боялась гнева вашей милости.
– Ну, – нетерпеливо понукал старуху Масоедов.
– И теперь не знаю, как и быть мне…
– Да говори же, сделай милость…
– Утаила я тогда от вас в Петербурге.
– Что именно?
– Окаянный Ксенофонт, сколько я ни грозила Христине, ведь совсем… тьфу! В любви с нею состоял.
– Что ж из этого? – зарычал Митрофан Александрович.
– Сейчас, батюшка… И упросил он меня, – продолжала Демьяновна, – когда Христина сошла от нас на квартиру, перед тем как ему бежать, когда вы изволили уехать в Гатчино, чтобы я передала ей письмо.
– А! И ты передала?
– Виновата, барин, – заплакала старуха, – отдала. Жалость взяла… Вижу, плачет… Говорит – в последний раз… Подумала: все равно не сегодня завтра его сошлют в село. Ну, и попутал грех – отдала.
– Отчего же ты об этом важном случае не рассказала мне тогда же, как он убежал и я принимал все меры к его розыску?
– Испугалась. Боялась, чтобы вы не погубили Христину.
– Что же это за письмо? – спросил самого себя и старуху Масоедов, в волнении расхаживая по кабинету. – Цело ли оно?
– Не знаю, – отвечала Демьяновна.
– А Христина жива? Где она теперь?
– Жива. Была замужем за аудитором и давно овдовела. Живет в Москве, у Пречистенской заставы, на Глухом бугорке, в собственном доме. Живет, слава Богу…
– Но нет, – сказал в раздумье Масоедов, – письмо не поможет. Подлец отопрется. Скажет: какое мне дело до того, что писал Долгополов. Другое дело, если бы его можно было уличить почерком руки, но вызванные судом специалисты-эксперты и здесь, и в Петербурге признали почерк бывшего вахмистра Пархоменка и этого негодяя за один и тот же. Так все подведено, что, Боже, сил нет…
Масоедов всплеснул руками и, тяжело бросившись на диван, склонил в изнеможении набок голову.
– Барин! – заговорила Демьяновна секретным тоном, слегка постукивая по полу своей палочкой, – я еще хотела вам что-то сказать… В позапрошлом году вы изволили отпустить меня с соседней помещицей Матреной Ивановной на богомолье. Мы были с нею в Киеве и были в Москве. И я виделася с Христиной. Дело ваше с Ксенофонтом тогда уже началось. Я и заговорила с нею об этом.
Масоедов стал слушать внимательнее.
– Стыдно признаться, – продолжала старуха, – окаянная и до сих пор не забыла его. Как услышала она это, что вы его признали, сначала и испугалась, а после пообсудила, да и говорит: «Может быть, и подлинно живет там у вас в Б. Ксенофонт, но только вовек этого не доказать вашему Митрофану Александровичу… Одна я только, – говорит, – могла бы так уличить его, что он сейчас бы признался, но я этого, говорит, – никогда не сделаю, хоть режь меня…» Масоедов встрепенулся…
– Не хвались, – говорю я ей, – наш барин в силе и богатстве; за что примется, всегда на своем поставит… «Нет, – отвечает, – поздно… Было бы годков десяток назад, а теперь всяк его за вахмистра признает». И начала она меня в подробности расспрашивать, как живет этот вахмистр и за какого человека его все считают. «Дура, – говорит, – я, что не вышла за него замуж», – сказала Христина, после того как я рассказала ей, что от людей слышала. «Как так?» – спрашиваю ее. «Молчите, – говорит, – маменька. Я виделась с ним… Когда он брал в Петербурге чистую отставку и там явился к начальству и повидался с товарищами, он заезжал сюда, в Москву, и разыскал меня. Я тогда овдовела. Он хотел, чтобы я повенчалась и поехала с ним, да я побоялась, а потом и по сей день сожалею. Коротаю свой век так, что ни Богу свеча, ни черту кочерга. Чего было опасаться, когда этот Пархоменко умер? Ксенофонт говорил, что он встретился с ним в дороге и тот продал ему свой паспорт».
– Ведьма ты старая! – закричал Масоедов, едва удерживавший себя все время, чтобы не прервать рассказа старухи, – как же ты смела молчать все это время, когда честь моя и, быть может, жизнь висела на волоске?
– Бо-я-лась…
– Больше ты ничего не можешь сказать?
– Все рассказала, как перед истинным Богом.
– Может быть, еще тебе что говорила Христина?
– Верьте моей старости… ничего…
– Говори скорее: где живет твоя дочь? – спросил Масоедов, нетерпеливо подбегая к письменному столу и схватывая записную книжку.
Старуха повторила подробный адрес. Масоедов записал.
– Послушай, – обратился он к Демьяновне, – если ты мне сказала правду, я озолочу тебя и твою дочь… Нет! – Масоедов заскрежетал зубами.
Не успела старуха доползти к своей комнате, занимаемой ею в нижнем этаже, как во всем господском доме и в обширном дворе поднялась страшная суматоха. Все забегали и засуетились.
Двор осветился фонарями и наполнился людьми и говором. Послышался звон засовов и скрип и стук растворявшихся сарайных дверей: из одних стали суетливо выдвигать экипажи, из других лошадей. Раздавались крики: «Живей, скорее, тюлень, куда глядишь» и т. п. И Митрофан Александрович Масоедов уехал в Москву.
13
Двухэтажный каменный дом Пархоменка принадлежал к числу лучших зданий в городе Б. В нижнем этаже были лавки, бакалейная и шорная, верхний – составлял помещение для хозяев. Оттуда из окон виднелись роскошные цветы и раздавалось чириканье канареек, висевших в клетках. День был праздничный, и Степан Максимович приготовлялся со своей молодой женою в собор к обедне. Он оделся в новую черную суконную пару. От напомаженной головы его, бакенбард и залихватских усов несло запахом Мусатова; шейный шелковый платок был тщательно повязан франтовским бантом; вычищенные сапоги блестели,