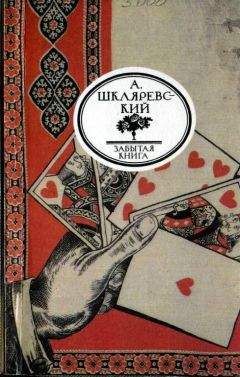манишка на груди была безукоризненно бела, золотая часовая цепочка и кольцо горели как жар. Степан Максимович имел очень торжественный вид. Жена его была видная молодая женщина, брюнетка, с чертами лица, схожими с Христиной Кирсановной, во дни ее молодости; она также расфрантилась в голубое шелковое платье, в черную мантилью и в гранатного цвета гарнитуровый платок [64] на голове с кокетливо распущенными концами и алмазным перстнем посредине, где находился узел. Чета была совершенно готова отправиться в путь, но ее задержало чисто семейное дело: маленький сынишка Пархоменка Ксенофонт захотел есть и молодая женщина принуждена была покормить его грудью. Ребенок имел черные кудрявые волосы, унаследованные от матери, и голубые глаза – от отца.
– Я пойду пока загляну в лавку, – заметил Пархоменко своей жене, – а ты, когда будешь готова, зайдешь за мной.
С этими словами Степан Максимович взял в руки свой картуз и направился было к выходу, как в дверях он столкнулся с местным полицейским квартальным надзирателем.
– Наше нижайшее Степану Максимовичу, – приветствовал он его.
– А, здравствуйте, Иван Михайлович. Что скажете нового?..
– Ничего-с, все старое. Пришел просить вас, пожалуйте в полицию.
– Чего?
– К допросу.
– По какому делу?
– Да все по масоедовскому. Настоятельно требует, чтобы привели вас, и в сопровождении полицейских служителей.
– Вот, Господи! – вскликнул Пархоменко. – Да когда же будет этому конец? Долго ли он еще будет мучить меня? Когда это, Господи, в Петербурге избавят меня от этого Пилата? Подавал военному министру, теперь подам самому государю.
– Истинно, наказание Господь Бог на вас посылает, – заметил, вздохнув, квартальный.
– Сами посудите, Иван Михайлович: в праздник не допускает в церковь пойти с женою Богу помолиться как подобает христианину?! И чего это господин городничий слушает его? Ведь всем известно: сумасшедший, одно слово.
– Городничий и то не хотел. Так куда – и слушать не хочет. Говорит – сильные доказательства имею, и просит допросить во временном отделении в последний раз.
– Да уж слышали эту музыку, – возразил Пархоменко. – Не угодно ли, Иван Михайлович, водочки?
– Разве наскоро… А то, знаете, ждут, приказано привести немедленно.
– Успеют. Лиза, – обратился Пархоменко к жене, – распорядись-ка. Знаешь, Иван Михайловичу бальзамовки.
– Насчет полицейских солдат, – сказал, выпивши водки, квартальный успокаивающим тоном, – вы не беспокойтесь. Чтобы сраму-то не было никакого, они пойдут так себе, стороною, сзади.
– Благодарю вас. Кажется, довольно и того срама, что по его милости безвинно столько времени в остроге высидел. Как-то придется отвечать…
– Да. По головке не погладят.
– Ну, на дорожку, да, делать нечего, и пойдемте. Ты ступай в церковь одна, – сказал Пархоменко жене, прощаясь с нею, – может быть, к концу обедни и я подойду.
– Приходи скорее, – печально попросила та. Муж пожал плечами.
Пархоменко вошел в залу Б-ской городской полиции с довольно спокойным лицом, низко поклонился присутствующим и остановился вблизи порога. Сзади его поместились два полицейских солдата. За большим широким столом, крытым красным сукном с золотою мишурною бахромою и кистями по бокам, обставленным креслами с кожаными подушками, восседали уездный судья, городничий, исправник, стряпчий и полковник Масоедов. За другим маленьким столом, крытым зеленым сукном, сидел письмоводитель полиции и скрипел пером.
– Полковник хочет еще допросить тебя, – обратился судья к Пархоменке, – чтобы удостовериться, действительно ли ты его человек Ксенофонт Долгополов или то лицо, за которое себя выдаешь, то есть отставной гусарский вахмистр Степан Максимов Пархоменко.
– Я уже докладывал, – отвечал подсудимый, – что тотчас по прибытии моем в Петропавловку, в 1836 году, я явился с билетом к господину бывшему капитан-исправнику Муровцеву и тогда же предъявил свой вид, кто я такой…
– Следовательно, – прервал Масоедов, – ты все-таки упорно стоишь на своем, что ты не мой человек, не Долгополов, а какой-то Пархоменко?
– Точно так-с, ваше высокородие.
Лицо Митрофана Александровича было сумрачно, сурово и болезненно. Он сидел в своем кресле, не подымая глаз и неподвижно устремив их на какую-то точку на столе. При возражениях Пархоменка в глазах его вспыхивал огонь, затем взор делался безжизненным…
– Мне кажется, – сказал он Пархоменке, о чем-то раздумывая, – после сегодняшнего дня я более допрашивать тебя не буду. Ты очень необдуманно поступил, зная мой характер, что не сознался мне с первого раза. Я, быть может, и простил бы тебя. Мне хочется только доказать, что я не ошибаюсь. Ты довел и себя до гибели, и меня. Но, – оборвал он свою речь решительным тоном, – говори: сознаешься, что ты Ксенофонт Долгополов? Спрашиваю тебя в последний раз!
– Никак нет-с. Изволите ошибаться. Самое лучшее – изволили бы давно представить меня в Петербург, там и сослуживцы мои, и командиры есть живые. Я сам послал уже об этом прошение к господину военному министру, буду жаловаться государю.
– Знаю, брат, знаю, – закричал на него Масоедов, вскакивая с кресел и грозя пальцем, – что ты прекрасно все подделал… умеешь концы хоронить, но… помни! Не все… Ты думаешь, что у меня нет доказательств, что ты Долгополов? Врешь… Господа! – обратился он к присутствующим. – Потрудитесь прочесть билет Пархоменка об отставке. Обратите особенное внимание на описание его примет. Ведь он был солдат! Теперь, дружок, разденься и покажи нам свой бок, бугор и ящерку! А это что? – спросил Масоедов, поднося к самому лицу Пархоменка старый исписанный лист почтовой бумаги.
– Выдала! – вскричал Пархоменко и прибавил, зашатавшись на своем месте: – Да, я – Ксенофонт Долгополов, их человек.
– Снимите с него показание, – повелительно произнес Масоедов.
– А где же Пархоменко? – спросил стряпчий.
– Я убил его… В озере, в Петропавловском лесу…
Произнеся эти слова, Долгополов грянулся в обмороке на пол. По приведении его в чувство он был закован и отведен в острог, а на другой день с него было снято полное показание, в котором он во всем сознался. По странной игре природы Ксенофонт Долгополов имел у себя признак, по которому мог быть всегда узнан! У него был на правом боку небольшой бугорчатый нарост и длинноватое черное пятно, очертанием схожее с ящерицею. Происхождение этого пятна покойная Варвара Константиновна объясняла тем, что будто бы она в то время, когда была в интересном положении, однажды испугалась в саду ящерицы и схватилась за бок. При самом рождении мальчика пятно было едва заметно, но потом оно разрослось. Пятно было покрыто чешуйкою и, сверх того, изменяло по временам свой цвет: оно бывало красноватым, серым, темно-зеленым… Об этих приметах Долгополова все сверстники его детства давно уже забыли, но он, по пословице «на воре шапка горит», всегда боялся быть по нем узнанным и, замышляя бегство от помещика, имел неосторожность в письме к предмету своей страсти, Христине,