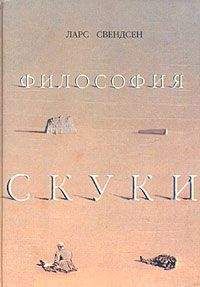– Карточку хоть оставьте, молиться буду!
Фотоателье было маленьким, запахнутым шторами, стены облеплены пожелтевшими снимками, за которыми заказчики не пришли. Пожилой, суетливый фотограф долго рассаживал у белой, натянутой на стену простыни – в центре Василина, по боками Лангоф и Чернориз, – собирая треногу, возился у громоздкого аппарата.
– Так-с, улыбочку, сейчас вылетит птичка! – спрятался он под чёрной материей, спадавшей на пол с его сгорбленной фигуры.
От магниевой вспышки Лангоф моргнул.
– А ведь ваше ремесло со временем отомрёт, – вставая, сказал он.
– Это ещё почему?
– Так аппарат ваш усовершенствуют, он будет у каждого, зачем же к вам приходить.
– Ну, это когда будет! На наш век хватит.
– Скоро, уверяю вас. Всю свою жизнь можно будет сфотографировать, все стены обклеить своей персоной. – Лангоф обвёл рукой желтевшие на обоях снимки. – Так будет в каждом доме, и скоро – надо же удовлетворить наш нарцисизм.
Пожав плечами, фотограф протянул квитанцию.
– За карточкой, пожалуйста, завтра.
– Отдайте женщине, она заберёт.
Василина зарыдала.
Лангоф снова был в университете. По расписанию дождался окончания лекции, вошёл с первым выскочившим студентом. В аудитории шум, гам.
– Вот, проститься пришёл, – тронул он за рукав Николая, сидевшего за столом в окружении молодёжи.
– Лангоф! – обернулся тот. – Так, господа, расходитесь, не забудьте свои конспекты.
Аудитория быстро опустела. Николай потёр нос, пачкая его мелом, и поднял глаза на высившегося Лангофа.
– На войну?
– Добровольцем.
– Другого не ожидал. Проводите?
Как и в первую встречу, вышли на набережную.
– Значит, и в вас пробудили патриотизм. Не обижайтесь, Алёша, мы все былинки на ветру – время гнёт в свою сторону, туда мы и растём.
– Так ветер ещё уловить надо, а можно всю жизнь против плевать.
Оба рассмеялись.
– Помните, в прошлый раз мы говорили, что в России у власти всегда военные? Как в воду глядели! Думаете, победим?
– Нет. Но идти надо. Как говорил мой учитель фехтования, итальянец: «Кто много думает, мало делает, а кто делает – не думает».
– Золотые слова! В этом вся трагедия. Но что мы на этот раз не поделили? Что нужно от немцев государю-императору понятно, а простым русским?
Лангоф усмехнулся:
– Вопрос, понимаю, риторический?
– Конечно. Так зачем нам драться?
– А разве нас спрашивают?
– Не спрашивают. И немцев тоже. Но, согласитесь, Алёша, главное – воспитание, а национальность, политика и религия – дело десятое. Мы быстрее найдём общий язык с культурным немцем или китайцем, чем с нашим хамом. Крамольные мысли?
Лангоф пожал плечами.
Дорога прошла незаметно. Появился дом-колодец с грязной подворотней и обшарпанной парадной.
– А знаете, у меня маменька умерла. – Николай бросил взгляд на окно, точно ожидая, что оно сейчас распахнётся. – Я при ней всю жизнь, теперь вот с сестрой остались. – В его облике проступило что-то жалкое. – Ну, Алёша, храни вас Господь!
– И вас, Коленька!
Лангоф по-медвежьи обнял старика, почувствовав набежавшую слезу.
Вокзальная площадь была забита экипажами. Дёргая головами, похрипывали лошади. Переругивались кучера. Синепогонные казачьи части, сгрудившись у поезда, гудели «Боже, царя храни!». По перрону носились денщики с офицерскими чемоданами. И всюду – серые солдатские шинели. Энергично протискиваясь сквозь толпу, Лангоф отстранял провожавших, прокладывая дорогу семенившему за ним Черноризу.
– Если не поторопимся – опоздаем! – бросил он через плечо. И, увидев спокойное лицо слуги, понял, что успеют вовремя.
Если бы он знал это слово, то Чернориз назвал бы себя «фаталистом». Для него не существовало сослагательного наклонения, никаких «если», судьба вела его по дороге, у которой не было отводных тропок. И если бы он понял, что такое сомнение, надежда, мечта, присущее большинству желание предугадать, если бы речь для него зашла о выборе, о вариантах будущего или свободе воли, он, вероятно, лишился бы рассудка. Впрочем, не так ли живёт большинство? Не бунтуя, не мучаясь скукой, не страдая от невозможности хоть что-то изменить. «Он знает будущее, – глядя на Данилу, думал Лангоф, когда поезд, стуча колесами, вёз их на фронт. – Но что это дает? Изменить всё равно ничего нельзя. Вот и я знал про войну, а разве её предотвратишь? Нет, уж лучше и не знать, во многой мудрости много печали…»
1915
Война уже собирала свою жатву. Через неделю после прибытия на фронт погиб Протазанов. Он не дожил до первого боя, сражённый шальной пулей, залетевшей в обоз. Протазанов трусил верхом, весело рассказывая трясшемуся на телеге раненому ротмистру про жену, гольф, сына, которого отдаст в кадетский корпус, оглядываясь по сторонам на менявшийся пейзаж, уверял, что дорога – прекрасный способ забыть про время, наблюдать которое можно лишь сидя на месте (он сказал здесь, что кольца лет видны только на пне, а на перекати-поле годы не оставляют отметин), и под конец договорился до того, что времени вовсе нет, раз и через сто лет будут также есть, пить, рожать и умирать. Приподнявшись на локте, легкораненый ротмистр слушал вполуха, перекатывая во рту соломинку, а когда Протазанов неожиданно смолк, обернулся. Он увидел плетущегося позади коня, волочившего в пыли князя, зацепившегося ногой за стремя.
Лангофа прикомандировали к пехотному полку, где он поступил в распоряжение капитана Маркова, небритого толстяка в грязном, наглухо застёгнутом френче. Лангоф успел уже отличиться в Галиции, имел чин поручика и за взятие у австрийцев укреплённой высоты был представлен к «георгию». Чернориз служил у него денщиком. Он заметно раздался, загрубел, его васильковые глаза помутнели. Со своей обычной невозмутимостью он чистил сапоги, таскал из полевой кухни дымившиеся котелки и нелепым видом всё больше напоминал барону гоголевского вия, беспомощное чудище, которое водят под руки и которое видит дальше других, потому что остальные слепы. «Человек предполагает, Бог располагает, а Чернориз видит, – теперь часто повторял Лангоф, когда Данила неуклюже возился с самоваром. – Может, ты просто медиум?» Но Данила по своей привычке не отвечал. И барон замолкал, сломленный его упрямым постоянством. Вспоминал Лангоф и тот день, когда получил боевое крещение. Он видел его теперь будто со стороны, что-то всплывало в памяти, что-то дорисовывало воображение. И это нагромождение фактов и вымысла становилось правдой. Той правдой, которую видел не он, Алексей Лангоф, а кто-то могущественный, отстранённый, способный одновременно присутствовать в разных местах, наблюдая происходящее с разных точек. Слякоть. Уже два дня моросил мелкий, пропущенный сквозь сито, дождь. Солдаты прозябли до костей. У костров сушились вымокшие шинели. Пропахшие потом портянки развешены на рогатинах. Люди впали в сонную одурь. Жизнь, смерть. Не всё ли равно? Они мечтали только о том, чтобы скорее всё кончилось. Предстояла атака. Как суслики из нор, выглядывали из траншей грязные, угрюмые лица. Сердце билось тупо. В голове – пустота. Три раза рота поднималась в атаку, отчаянно цепляясь за комья глинозёма, лезли на гору, ползли, сжимая винтовки с примкнутыми штыками – и три раза откатывались назад, зализывая раны. С австрийской стороны доносились издевательские звуки губной гармоники. У-рр-ааа! Поднявшись из окопа, цепь, ведомая Лангофом с наганом в руке, побежала на высоту. Ветер бил в лицо, топорща шинели, рвал на куски. У-рр-ааа! Словно оловянные солдатики на ковре в детской. Справа застрекотал пулемёт. Рядом ахнуло – расплёскивая землю, разорвался снаряд. Обхватив голову, Данила мягко осел на землю. В ушах стоял страшный гул, в котором тонули крики солдат, бежавших с винтовками наперевес. Сгорбившись, вокруг Чернориза засуетились санитары, взвалили на носилки. «Счастливчик, отделался контузией, – в лазаретной палатке поставил диагноз пухлый добродушный доктор. – Хорошо, осколками не посекло». Неделю сёстры с красными крестами на чепцах поили Данилу горькой микстурой. Он стал тугим на ухо, и в его голосе теперь прорывались скрипучие нотки, свойственные глухим. Лангоф навестил его сразу после атаки. Сидел возле спящего Данилы, буравя взглядом сомкнутые веки, ждал, когда тот очнётся. Потом долго мял ему руку, чувствуя вину, но произнёс наиграно весело: «Эка тебя угораздило, будто на ухо крикнули». Про то, что высоту взяли, он не обмолвился, рядом с непрерывно стонавшими на соседних кроватях ранеными это казалось каким-то мелким, незначительным событием. «Ничего, брат, скоро поправишься, – прощаясь, кинул Лангоф. – Вернёмся в Горловку, заживём лучше прежнего». Он покраснел, почувствовав, что сморозил чушь. Данила часто заморгал, и барон вдруг понял, что он уже давно забыл деревню, Петербург, воспринимая всё с рабской покорностью, относясь как к должному и к лазарету, и к бессмысленной войне, и к своей контузии. «Короткая память, – хмыкнул про себя Лангоф. – Что ещё нужно для счастья?» Когда он выходил, в палатку заносили здоровенного парня с оторванной ногой, задыхавшегося от крика. Ему вкололи двойную дозу морфия, и он заснул с вывалившимся языком. А, проснувшись, снова захлебнулся криком. У него началась гангрена, Данила видел, что он умрёт, и не понимал, зачем продлевают его мучения. А у Лангофа были свои переживания. Он не рассказал Даниле, как после стремительной атаки ворвались в австрийские траншеи, как взяли в штыки. Скрюченные трупы заколотых забили глубокие окопы. Молодой парень с вислыми гуцульским усами окоченел стоя, опираясь на винтовку, его сосед, грузный капрал, сжимал гашетку опрокинутого пулемёта, тупым рылом уставившегося в небо. По стенам в австрийском блиндаже, просторном и сухом, висели противогазы. Повертев один в руках, Лангоф посмотрел сквозь круглое стекло для глаза. Тучный, седой ефрейтор, в острошипой стальной каске и перекрещенной ремнями шинели, обхватил руками стол, прижавшись к нему щекой. Его застрелили в упор, пуля вышла со спины, вырвав клок из шинели, оставив дыру, вокруг которой расползлось бурое пятно. Мёртвые пальцы сжимали огрызок химического карандаша. Мерцавший огонёк в керосиновой лампе тускло освещал недописанное письмо. Подвернув фитиль, Лангоф, знавший немецкий, прочитал: