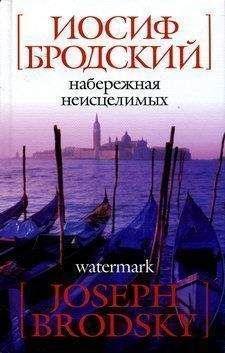И два последних слова подчеркнуты два раза.
А вот и свой человек из общества «Память».
На нелепых, точно у клоуна, каблуках остроносые штиблеты. Белые шаровары. Но все замызгано. Похоже, что где-то шарахался. На животе завязанная со спины узлом оранжевая рубаха. Поверх узла кудрявые черные волосы.
Все топчется и что-то сам себе бормочет. И никак не разобрать: по-русски или по-еврейски.
Бросил монетку и тупо на нее уставился. Орел или решка? И тут же о ней позабыл.
Напротив экран и на экране Вилли Токарев. Теперь уставился на экран.
– Вые. л… бля… мою жену…
Подумал и добавил:
– За сто долларов…
Все смотрит и еще добавляет:
– В рот…
И уже окончательно:
– За десять долларов.
Подходит к моему столу и разглядывает на книжке мою фотографию.
Теперь разглядывает меня.
– Во, бля… – наверно, решил, что двоится. – Тору, – спрашивает, – читал?
Стою и даже и не знаю. Не знаю, что ему сказать. Молча наблюдаю.
Откуда-то из шаровар вытаскивает плоскую малиновую бутылку и ставит ее прямо на книгу.
Похоже, что дорогая. Какой-нибудь ликер.
Ушел.
Стою и опять не знаю. Теперь не знаю, что мне делать дальше.
Сосед, что торгует зубной пастой, меня успокаивает.
– Сейчас, – говорит, – придет.
И оказался пророком.
Уже из рубашки вынимает похожие на картофель фруктины.
– Я бля… украл… а тебе дарю…
И, засунув свой малиновый эликсир обратно в шаровары, исчез. Теперь насовсем.
Я смотрю на картофелины. Какой-то диковинный овощ. А вдруг отравленные? Или сейчас взорвутся.
– Да ты не бойся, – снисходительно улыбается мой сосед, – это киви.
Попробовал – и так себе. Приторно. Гибрид банана и клубники.
А мне по душе земляника.
Одни собирают наклейки от бутылок. Другие – спичечные коробки. А в каком-то рассказе, кажется, у Трумена Капоте, один собрал коллекцию снов и, если мне не изменяет память, попробовал их забодать. И даже сам Набоков – напялит на лысину панаму, схватит сачок и давай гоняться за своими любимыми бабочками.
Ну, вот, и я туда же. И теперь у меня тоже коллекция. Коллекция евреев.
Каждому свое.
Возможно, это меня и огорчит, но сегодня его кошелек на профилактике. Зато он мне даст полезный совет. А это иногда дороже денег.
– Вы со мной, – спрашивает, – согласны?
И в знак протеста я угрюмо молчу.
Он должен мне сказать, что всю свою жизнь он прожил в Кишиневе. Но разве это была жизнь!
Вообще он привык делать людям добро, и мне, как хорошему человеку, он бы дал совет никогда не связываться с молдаванами.
– А чего, – говорю, – они вам такого сделали?
– Да, – говорит, – ничего такого и не сделали.
Просто молдаване – это все равно что чурки. Они даже не понимают, что такое часы. Петух закукарекал – это значит утро.
Русские сделали их людьми, а они их прогоняют.
– Вы меня, – спрашивает, – понимаете?
– Чего ж тут, – улыбаюсь, – не понять.
Другому он бы не помог, а мне он дарит полезный совет. А что я хороший человек, ему это видно сразу.
– Поверьте, – повторяет, – мне на слово. Они такие же, как чурки.
Немного подумал и уточнил:
– Как таджики…
Еще немного поднатужился и уточнил уже окончательно:
– И как туркмены.
Ну, надо же – еще и кидается книжками. А сам все смотрит и смотрит, и все никак не может отойти.
И тут он мне все объяснил.
Как еврей за еврея, за Бродского он, конечно, не пожалеет и жизни. Но, как за поэта, не даст за него даже ломаного гроша.
У них тут есть один поэт, вот это, действительно, пишет. Конечно, он не лауреат, но когда я прочитаю его стихи, то он отдаст мне свою последнюю рубаху, если я не буду плакать.
И за этого еврея он тоже готов отдать свою жизнь. Но не только за то, что он еврей. А еще и за то, что этот еврей – настоящий поэт.
– И знаете, что я должен вам сказать. Есть начальники – и есть подхалимы, и есть министры – и есть подхалимы… И я вам должен сказать, что ваш хваленый Бродский пишет как ДЕБИЛ.
И ушел.
Но все-таки опять вернулся. Чтобы сказать мне самое главное. И опять схватил мою книжку. И в сердцах снова бросил ее обратно на стол.
Ну, вылитый горный орел. И спустился сюда на Брайтон прямо с вершины Казбека.
Густые седые брови и орденские колодки на груди. И складки щек, точно взятые напрокат у позднего Арсения Тарковского.
– Вот я вас хочу спросить. Есть письмо к матери Есенина и есть письмо к матери Гамзатова. И я вас хочу спросить, какое из этих писем вы послали бы вашей маме?
Вообще-то за Есениным нужен глаз да глаз. В особенности «под осенний свист». А то еще, чего доброго, возьмет да и «зарежет». Но до джигита все равно не дотягивает. Не тот кинжал.
– Конечно, – говорю, – Есенина.
Ну, так он и знал. Он так и предполагал. Ну, так он, поморщился, и думал. И, если я хочу, то может мне даже объяснить почему.
– Ну, – спрашиваю, – и почему?
– Да потому, – говорит, – что Гамзатов не русский.
И теперь уже обиделся на меня навсегда.
Когда у меня возникли проблемы со штанами, один добрый человек приволок мне их полную сумку. И вывалил прямо на книги.
– Беги, – говорит, – пока не пегедумал.
И требует с меня восемь долларов.
Но мы же с ним вчера сторговались на двух. И всего за один экземпляр.
– Я же, – говорю, – не сороконожка.
– Ну, ладно, – улыбается, – хег с тобой. Беги за пять.
И так и оставил меня без штанов.
– Все вы, – говорит, – из Госсии такие. Все хочете пгоехаться на шегмачка!
– Вот, подсчитай… – предлагает мне Фима и переворачивает прямо на стол банку с монетами. И каждая монета – двадцать пять центов. Здесь называется «квотер».
Я даже испугался: ну, думаю, все. Проломил. Но стол все-таки выдержал.
– Ты бы, – смеюсь, – лучше застегнул ширинку.
А над расстегнутой ширинкой из рубашки вываливается волосатый живот.
– Ничего, – улыбается, – они здесь другого не заслужили.
Фима из Днепропетровска и в прошлой своей жизни творил на эстраде чудеса. А в прошлом году, может это и легенда, за бутылку «кошерного» показывал своего «затейника» продавщицам из «Интернейшенела». И продавщицы остались Фимой довольны. И говорят, что ничего. Приличный.
А мне он предлагает каждое воскресенье бегать по синагогам. Их, говорят, вообще-то сорок две. В одном только Бруклине. И у него на карте маршрут. Часа на три. С восьми до одиннадцати утра.
– Я, – говорю, – Фима, в воскресенье не могу. В воскресенье – самый наплыв покупателей.
Как тут у них называется – уик-энд.
– И потом, – улыбаюсь, – у меня мама русская.
– Да, – смеется, – х. ня.
Он даже может мне достать из синагоги справку. Что я обрезанный.
Фима сказал, что их с ним бегает целая футбольная команда. И все, кроме Фимы, русские.
Одиннадцать русских, а впереди один еврей. И Фима у них вроде Карла Маркса. И каждый им кидает по «квотеру». Такой здесь обычай.
– Вот так, – показывает, – бежишь, и у каждого такая баночка.
И этими вот «квотерами» трясешь. А сам в это время орешь. Ну, вроде бы тоже вместе со всеми молишься.
– Цидока-цидока-цидока… пли-и-и-з…
1
Лена мне говорит:
– Ну, что ты все про евреев да про евреев? Напиши лучше про Гену Тарасевича.
Я говорю:
– А ты уверена, что Гена не еврей?
– Ну, какой же, – смеется, – Гена еврей? Разве евреи бывают нищие?
Но я Лену поправил.
– Не нищий, а Божий человек.
2
– Ну, что, Солженицын, уже намылился?
– Пойду, – говорю, – схожу в «Приморский». К Бубе.
Мишка говорит:
– Ну, сходи, сходи…
И, как всегда, добавляет:
– Жидяра! Но мужик ничего.
Вот интересно: если послушать нашего Мишутку, то евреям вообще нет цены.
– А я, – говорю, – думал, грузин.
Но Мишке, конечно, виднее.
Я даже не уверен, что Буба читает по-русски.
Но я все равно ему надписал:
«Бубе от автора.
Невский проспект – Брайтон-Бич.
Июнь 1992 г.».
И Буба остался доволен.
И теперь он меня всегда пускает. И даже не обязательно вечером. Но иногда и просто в туалет. На Брайтоне это серьезная проблема.
3
Но в тот вечер там были сплошные американцы. И, значит, ничего не светит.
Я выхожу, а Гена – наоборот – сидит в своей коляске и ждет. Когда начнет выходить его клиентура. Так что мы с ним никак не пересекаемся.
Гена мне говорит:
– Слушай сюда. И тебе, – улыбается, – не стыдно?
Я хотел ему объяснить, что американцы мне ничего не дали. Но он, оказывается, совсем о другом.
– И тебе, – повторяет, – не стыдно не подарить свою книжку собрату?
– Да, – говорю, – стыдно.
И подарил. И мы с Геной с тех пор крепко подружились.
4
А начинал он еще во времена «оттепели».
– Помнишь, – говорит – в «Литературке» была такая рубрика. Двенадцать стульев.
– Она, – говорю, – вроде есть и сейчас.