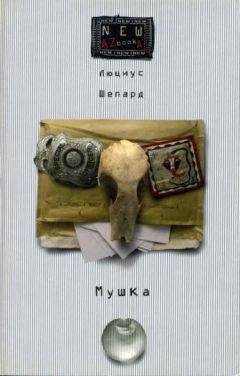Оголодавший с дороги Валера очнулся первым, начал жевать кое-что из принесенного, но вкуса не ощущал.
– Сам-то что думаешь?
Коля поднял на него мутные, будто сонные глаза человека, который устал на столько, что мало замечает из всего того, на что смотрит.
– Я боялся, что ты не приедешь.
– Пошли отсюда. Не могу я вот так здесь сидеть.
Вышли на воздух. Коля огляделся по сторонам, внутренне желая, чтобы рядом не было много людей.
– Я конечно все давно решил сам. Да дело тут не в смелости. Сил, боялся, не хватит. Просто не хватит сил. Очень уж как-то пусто стало вокруг. Вместе оно как-то легче.
– А если б не приехал? – ткнулся взглядом в грязный снег на тротуаре Валера.
– Не знаю даже.
– Я знаю. Сам боялся не приехать. Не думай там себе: как ты сказал, поговорить надо, я сразу все понял. Что это… как тогда к Ваньке выбраться не смогли.
– Да, похоже. Сволочи мы. Он, глядишь, и не сдулся бы.
– С друзьями надо пить. Это, по крайней мере, лучше чем не пить.
– Особенно когда их бросают, – Коля приостановился и снова огляделся по сторонам. – Грохем по сотне?
– Грохем. Но попозже. Ты же решить хотел? Решил – говори. Ты это сказать должен. Себе. Озвучить, как говорится. Чтобы и я и ты знали.
– Да что тут озвучивать? – с вызовом, громко, выдохнул накопившееся Коля. – Правильно все говоришь, и я все правильно думаю, и когда от нее уехал, решил себе уже, что все брошу к чертовой матери, и – к ней. Потому что без любви – мы не жильцы. Манекены. Клоуны говорящие. И хоть изверились, и кажется – хладнокровные уже, в грязи по уши, и никакими прокляиями из преисподни нас не испугать. Чертей мы не боимся, что нам черти? Но и в Раю мне делать нечего… там и без меня дураков хватает. Мне еще тут подышать хочется! Подышать! Не могу я всю жизнь со сдавленной грудью людям в глаза смотреть. А кто сдавил ее – сам и сдавил! Сам себе печать кретина на лоб поставил, сам себя в клетку посадил.
– А она? – исподлобья спросил Валера.
– Она? – стих Коля. – А она, даст Бог, примет. Вот, хоть ты тресни, а верю! Ни во что уже не верю, а в то, что счастье может быть не могу не верить.
Валера оглядел дома вокруг, редких прохожих, будто искал что-то, поднял голову на миг к верху, и снова взглянул на Колю:
– Без бутылки в этой круговерти не разберешься. Ни хрена я ничего не понимаю! А так – все правильно. Даже не надумывай себе. К чертям домыслы. Силы нужны? Так какого рожна тогда я здесь делаю? Вместе оно веселее. Пошли!
Они еще долго бродили по грязным, пропитанным сыростью улицам. Понурая, хилая городская зима никак не могла сковать их льдом. Пушистый снег тут же превращался в слякоть. Но все это никак не портило друзьям настроение, и ничто со стороны больше не имело над ними власти. Они вдруг почувствовали внутри себя такую силу затаенной радости, так крепко утвердились в себе, в том, что все может удастся и сбыться, и ясно увидели, что надежда на счастье есть и в их покрытых ржавью сердцах, что, казалось, сами могут подняться выше этой сопливой погоды, выше хмурых переулков и просветлить закисший в равнодушии город.
Остаток вечера, за три часа до полуночного поезда, провели у Коли. Поставили на табурет бутылку водки, намазали маслом куски хлеба, достали из запасов банку тушенки. Решали срочные дела: когда что продать, как уйти с работы. Когда ехать к Юле и как говорить с родителями. Все это вдруг показалось выполнимо. Тяжело и страшно будет завтра, сказал Валера, а мы разберемся со всем сегодня – пока все легко и просто, пока мы оба верим.
На перроне, перед отправлением, решили, что Валера приедет сватать невесту. Попробует с собой взять кого-то из ребят – остался еще кое-кто с институтского времени.
Стемнело и вокзал теперь не казался Валере таким угрюмым как утром. Он смотрел как высокий парень, лет двадцати, целует девушку на прощание и что-то неловко пытается сказать; как пожилой мужчина с неожиданным букетом цветов встречает дочь-студентку; как беззаботно, с шутками и смехом, куда-то едут туристы с огромными рюкзаками за спинами; как маленькая девочка, впервые оказавшаяся на вокзале, теребит маму за палец и пытается спросить, куда это все едут. Все они почему-то показались ему приличными и культурными – с запасом доброты внутри – людьми, и сам он среди них виделся обычным хорошим человеком, и от этого было весело и хорошо.
– Без тебя будет скучнее, – криво улыбнулся захмелевший Коля.
– Черта с два, – возмутился Валера. – на этот раз не надрались, даю слово – в следующий раз – как пить дать. На крайний случай, во сне к тебе с бутылкой заявлюсь.
– Ага, в кошмарном.
– Почему? В кошмарном – это если с бутылкой кефира.
Они пожали друг другу руки и обнялись по студенческой привычке.
– Нашим привет, кого увидишь.
– Всех хочу собрать. Ты тут только не откинься ненароком, мы скоро. А то гулять повода не будет.
– Это почему? Как раз повод…
– Ага, а проставляться кто будет? Придется всех наших тащить за тобой в Чистилище и выводить все твои грехи на чистую воду.
– Тогда мне Рай не светит, – ухмыльнулся Коля.
– И нечего там делать! Я всегда говорил, в Раю скукотища.
– Думаешь, в Аду веселее?
– В том и беда – не везет по жизни – всюду плохо… – покосился на друга Валера и они рассмеялись.
– Есть мнение: стоит тут еще подзадержаться, – с важным видом произнес Коля.
– Уверен?
– Здесь хотя бы есть с кем выпить. Да и – с кем закрутить, – с азартом и легкостью, которой Валера и не думал в нем увидеть, сказал Коля.
– Похоже, женщины становятся единственным поводом не сыграть с чертями в кости.
– У тебя здесь, кстати, – оглянулся Коля на вагон, – полно симпатичных.
– А вот это требует дополнительного изучения, – оглянулся из тамбура Валера.
– Тогда – на связи.
– Да. И до скорого.
Валера прошел к себе на место, закинул наверх рюкзак, глянул еще раз в окно на вокзал, и подумал, что больше никогда ни о чем не будет жалеть, и ничего он не хочет возвращать, и ничего в том, что было, менять, и что теперь ни рогатый с копытами, ни курчявый с крылышками не заставят его ни с кем поменяться местами.
9 – 11 января 2012. М.
городу Узловая посвящается
«…Осталось нам немного лет,
Мы пошустрим и, как положено, умрем».
В. С. ВысоцкийПо улице, между высокими серыми домами шли толпы людей и с хрипом выкрикивали протесты и требования. Растрепанный старик с бородой клином, в потертом пиджаке и круглых металлических очках нес плакат «Хватит врать!». За руку он держал мальчика лет шести. Рядом группа бедно одетых юношей растянула в половину ширины дороги криво написанный краской транспарант «Хватит жрать!». Шли сотни и сотни людей и требовали все одного.
Демонстрация продвигалась городом, и дома вокруг рушились, будто не могли терпеть криков на разрыв и отчаянных лиц. Когда к месту, где прошли первые ряды, подходили последние, от зданий по обе стороны улицы оставались одни руины и столбы пыли. От нее лица людей будто старели. Демонстранты растерянно оглядывались на разрушения, замедляли шаг. Крики стихали, все тревожно переговаривались; некоторые садились среди обломков и клубов оседавшей пыли, растерянным взглядом осматривали проступающие во мгле развалины и смолкали. На остатки упавшего балкона, испуганно озираясь, сел старик в круглых очках. Он закрыл лицо руками, посидел так с полминуты, а когда посмотрел на свет, его не интересовала ни кричащая толпа, ни разрушенная улица. Он смотрел на мальчика, который лазил по обломкам камней, что-то отыскивал, иногда отбегал, исчезая в облаке пыли, появлялся снова и продолжал играть с разрушенным городом в только ему и камням ведомую игру.
Витя проснулся и долго не открывал глаза, будто хотел запомнить каждое лицо из той толпы, каждый их выкрик, и особенно мальчика на развалинах. Когда встал и умылся, позвонил Саше:
– Привет! У нас все готово?
– Да.
– Тогда – сегодня. Не откладываем. Егору скажи.
– Ты же хотел завтра?
– Завтра может и не быть.
– Саша! Что ты смотришь так сурово? – Каменев откупорил бутылку и поставил стаканчик на постамент памятника. – Подожди, сейчас веселее будет, – Он плеснул себе и чокнулся с ногой памятника. – Выпьем, Саша, за… удачу что ли?.. Как там… «и на обломках самовластья»… – он поднял голову. – Но она еще не воспрянула, совсем не воспрянула… – привиделось, Пушкин смотрел хмуро, голова памятника была склонена вперед, будто поэт согнулся в скорби.
– На проходной какая-то Вера Михайловна, – справа мелькнула черная фигура и тенью легла на постамент. – Милиции нет. От входа направо, метров двадцать по коридору, лестница, второй этаж, и сразу приемная. Там секретарша. Кабинет Петухова – направо, Кобылина – налево. У нас минут десять. Телефон у секретаря. В кабинете…