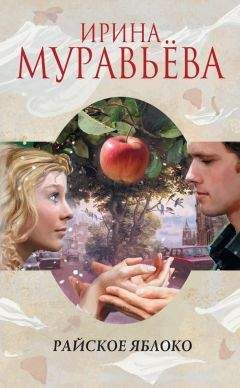В половине десятого Агата уходила домой, и ночь Марина проводила наедине с теткой. Нельзя сказать, что Нона Георгиевна ее особенно беспокоила, хотя Марина по два-три раза заходила к ней, сажала на тот же роскошный горшок, похожий почти на музейную вазу, потом выливала его содержимое, прозрачное, как у ребенка, и тетка опять засыпала беспечно. Вся жизнь была тихой и однообразной. И вдруг изменилась.
В поликлинике, где Марина по-прежнему работала санитаркой, к ней вдруг подошел невысокий и плотный, почти даже полный, хотя мускулистый, кудрявый, прищурившийся, темно-рыжий, представился Зверевым и удивился, что она трет шваброю лестницу.
– Да с вашей ли внешностью лестницы мыть? – сказал он и даже немного разгневался. – Я вам говорю это как режиссер.
Она неожиданно так растерялась, что вся покраснела. Он напоминал румяного и беззаботного фавна, особенно эта его голова: огромная, в бронзовых мощных спиралях. Глаза были желтыми, быстрыми. Взгляд выхватывал тело ее из одежды.
– Не лестницы мыть вам, а в фильмах сниматься!
– Но я не актриса, – сказала Марина.
– Лицо у вас есть. – Он на шаг отступил. – Лицо и фигура. А что еще нужно?
Она не нашла, чем ему возразить.
– Свободны сегодня? – спросил ее фавн.
– Свободна, – кивнула Марина.
Пошли в ЦДЛ, в ресторан, где сидели одни знаменитости. Позже других явился, весь в розовом, с желтою бабочкой на тощей от возраста шее, поэт, к которому сразу подсела блондинка, прося его что-нибудь спеть.
– Все свои, – сказала блондинка. – Гулять так гулять. Вы, Женя, поете не хуже Кобзона.
– А платят мне меньше, – заметил поэт, но все-таки спел два старинных романса.
На режиссера Зверева произвело очень хорошее впечатление то, что девушка отказалась от спиртного.
– У нас так не принято. Нам так нельзя, – сказала Марина
– Не принято как? – уточнил он, румяной и рыжей рукой скребя свою крепкую бороду.
– Армянская девушка пить не должна. Позор всей семье, – прошептала она.
– Ах, вот как! А как же купаться? На пляже? Что, тоже нельзя?
– Я в майке купаюсь, – сказала Марина. – А многие женщины в платьях. Так можно.
– Смешно, – улыбнулся он.
– Почему вам смешно?
– Пойдемте ко мне, я вам кофе сварю. А то здесь все пьют. Просто дикость одна! – Он поморщился.
В квартире Зверева, поблизости от метро «Таганская», все стены были увешаны пейзажами на тему зимы – то лес под покровом, пушистым и белым, то избы, покрытые сизой метелью, и отблеск лучины, и месяц в далеком, искрящемся небе, то баба простая – в лаптях, с коромыслом – несет себе воду по узкой тропинке, протоптанной утром лаптями соседок, не остановивших вниманья художника.
– Глядите, – сказал режиссер, обнимая Марину за нежные девичьи плечи. – Любимая тема: Россия, зима. Все деньги уходят на эти полотна. Закончу в тюрьме. Долговой, разумеется.
Забили часы, и Марина опомнилась.
– Ой, что же я! Тетя одна!
– Э, нет, не годится! Что тетя? Я вас не пущу!
– Но у нас так не принято, – опять сказала она, опуская ресницы.
Он вдруг обхватил ее крепко за талию. Марина вцепилась в горячую бороду и дернула так, что он крякнул от боли.
– Нельзя так! – сказала она совсем тихо. – Зачем же так делать? Нехорошо.
В мозгу его, много познавшего разных пастушек, и нимф, и солисток балета, и даже трех летчиц и двух космонавток, сама собой вспыхнула схема захвата.
– Марина! Вам нужно домой? Поехали, я отвезу. И простите.
Марина заметно смутилась, помедлила.
– Надеюсь, что наше знакомство оставит в обоих прекрасные воспоминанья, – сказал он и очень внимательным взглядом поймал весьма грустную легкую тень, которая заволокла ее личико.
В машине он кротко молчал и посвистывал, как будто Марины и не было рядом. Потом вдруг спросил:
– Рассказать вам такое, о чем я, поверьте, ни разу… ни слова?..
И громко сглотнул.
– Расскажите, конечно.
Она была и смущена, и растеряна.
– Снимали на Кольском, – сказал он негромко. – Поехали летом. Я был в это время влюблен. Я любил. Любил больше жизни прекрасную женщину. В ее животе был наш общий ребенок. Она была замужем. Муж идиот. Тяжелый невротик, способный на многое. Художник, весьма неплохой, между прочим. Вы помните бабу в кокошнике, с ведрами? Так вот – это он. Не торгуясь купил. Он очень любил ее, а ведь все неврастеники устроены так: могут взять и зарезать. И мы с ней решили: родится ребенок, тогда мы и скажем. Пусть прежде родится. Я приторможу?
Зверев притормозил. Марина вздохнула от чистого сердца.
– Был ясный погожий денек. Синева. Простор, ни души. Заповедные земли. И тут наступил конец света.
Марина вдруг съежилась:
– Землетрясенье?
Он быстро взглянул на нее:
– Нет, похуже.
– Но хуже-то ничего не бывает, – сказала она, побелев в темноте.
– Не стоит нам сравнивать. Право, не стоит. У вас за спиною – одно, здесь – другое. Я помню все, все. До мельчайших подробностей.
Пошел крупный план, он заметно увлекся:
– Она напевала, готовила что-то. А я любовался. Живот ее был… Такой, словно купол небесный, на фоне огромного этого, синего озера. И вдруг все исчезло. Магнитная буря! Кругом темнота, дикий ветер и снег. Вернее, не снег. Все накрыло волною колючего острого льда. И ни зги. Тут я закричал, стал искать ее, шарить. Нащупал, нашел. Я схватил ее на руки и сразу пошел сам не знаю куда. Я нес ее в этом аду, шел и шел. Не знаю, как долго. Час, два. Шел и шел. Пока не свалился.
Марина в темноте дышала как козочка – нежным, молочным. Он вдруг замолчал. (Ведь дрянь-режиссер Параджанов! Ведь ноль! А как ведь пролез на своем колорите! Конечно: гранат. Спелый, сочный гранат. И каждое зернышко – цвета граната. И каждое зернышко – лучше отдельно… Сперва грызть и грызть, а потом проглотить… А съемку начать можно сценой купанья: бежит к воде в майке, и вся золотистая…)
– А что было дальше? – спросила Марина.
– Очнулся уже в вертолете. Нашли. Ну, терли меня, растирали, поили. Ее рядом не было. Я ее нес – умершую. С нашим умершим ребенком.
Марина заплакала. Он ее обнял.
К тому дню, когда произошла автомобильная авария и мальчика, сбитого машиной, в которой оказалась беременная женщина, уложили на носилки, – к тому дню любовная связь Марины с режиссером Зверевым насчитывала три года и три месяца. За все это время ей ни разу не пришло в голову, что история с магнитной бурей на Кольском полуострове была вычитана им в журнале «Вокруг света» и смело использовалась не один раз. Включались детали, включались подробности, которые сами себя обновляли и сами себя изнутри омывали, как вешние воды укромно лежащий и весь побелевший от времени камень.
Ему, волосатому дерзкому фавну, нужна была новая женская плоть. О девичьей не приходилось мечтать: откуда же в нашем столетии – девичья? И вдруг повезло. Да ведь как повезло! Он был ее первым мужчиной. Кому рассказать – не поверят, но факт. Никто до него не касался, не трогал. Он был удивлен, умилен, даже думал: возьму и женюсь! Будут только завидовать. Потом поостыл. Лучше пусть будет грех. Большой сильный грех, как пристало художнику. Такое подчас приходило на ум (ночами особенно!) – диву давался. Потел под пижамою, хоть выжимай. Прочел вот «Лолиту» и месяц глазел на маленьких школьниц. Потом испугался. У нас не Таиланд. У нас, слава богу, нормальная жизнь: без педофилии, без детского секса. Ему повезло, что он встретил Марину. С одной стороны, ведь подросток, дитя. Смеется по-детски, стесняется, плачет. С другой стороны, королева. Глаза! Глаза, как у серны. А ноги? А грудь? В коллекции женщин, которую он собирал по крупицам, Марина была самым крупным брильянтом, но фавну хотелось и мелких стекляшек, хотелось немножко запачкаться. Вот ведь! И после стыдливой Марины и глаз, в которых он просто тонул, шел на дно, приятно и в тине немного поплавать. С какой-нибудь рыженькой, хриплоголосой, какая сама с тебя стянет трусы, сама отхлебнет и винца из фужера, и после заснет у тебя на плече, дыша табаком тебе в самое ухо. Он был ненасытен, широк, плотояден. Стоял на своем, хоть ты режь его, хоть крутым кипятком поливай из ведра! Когда он со вздыбленной шерстью на теле крушил и кромсал тех, кто вздумал с ним спорить, то люди, поросшие жиденьким пухом в районе груди и обвислых подмышек, сдавались. Он был из породы отчаянно-крепких. Он был из глубинки и сам проложил дорогу наверх, на вершину в алмазах, и сам, увязая по пояс в грязи, скользя в ней, и падая, и матерясь, расселся, как молох, на этой вершине и ноги расставил, чтоб не свалиться.
Постепенно Марина его поняла. Да он ничего не скрывал. Его обаяние и заключалось отчасти в небрежности с женщинами. Он словно хотел отомстить им за то, что их было много, а он был один, и нету от них ни минуты покоя. С Мариной он долго терпел и старался ее не обидеть, насколько возможно. Ведь девочка! Просто как с неба свалилась. Наверное, от изумления фавн решился на смелый поступок – оформил Марину гримером на студию. И студия ахнула: чтобы любовницу, которая будет, конечно, следить за всеми его, так сказать, увлеченьями, вдруг взять и своими руками настолько приблизить к себе, к своей собственной жизни!