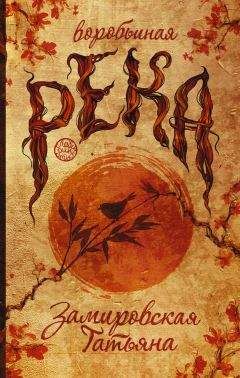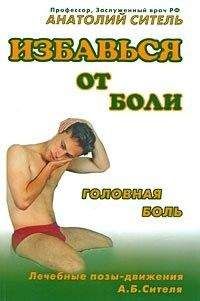Дома он открыл дверь своим ключом, на цыпочках прошагал через коридор, задом наперед вошел в свою комнату, включил музыку, прислонился к стене, облегченно выдохнул.
«Паука уже можно не вынимать», – решил он.
«И свет не включать тоже», – подумал он. Потому что, пока Петр сидел в кафе и ел теннисные шарики, его уже привезли домой. Он это точно знал, поэтому свет пока что лучше не включать, ни за что, никакого света.
«Нечего тебе тут сидеть», – сказал Петр сам себе. Чтобы не разбудить домашних, он так же тихо пробрался в кухню, сел около окна и начал ждать рассвета. Он посмотрит на все это потом, когда встанет солнце, а пока он будет сидеть у окна, смотреть в небо и думать. «Столько всего есть, о чем сейчас можно думать», – обрадовался Петр. Паук вдруг ожил, мягким плавающим движением вылез из его рта, сел на стол, вытянув оказавшиеся грациозными ножки, и начал озираться по сторонам. Петр открыл холодильник и налил пауку в блюдце апельсинового сока, потому что от молока, как он уже понял, пауку становилось очень плохо.
«Посидим до утра, а потом пойдем домой, – ласково сказал он пауку и погладил его по бархатной серой спинке. – А сегодня надо, чтобы они хорошо выспались, а вообще меня уже привезли, все хорошо, лучше и быть не может, когда все вещи лежат на своих местах».
Паук жмурился, прижимал ножки к столу и был чуть-чуть похож на воробушка.
Как это происходит, ты узнаешь только потом
– Иногда это случается очень быстро – внезапные пять или семь минут отчуждения по телефону, и человек уже становится… то есть нет, он уже ничем не становится. Резкий приступ зуда под ногтями – бац! – и вместо него пустота. Вместо тебя тоже немножко пустота, но это хоть что-то родное, из него можно лепить сосудики и даже брить где-то там в пустоте ноги и стричь ногти, но меня это не касается, у меня не женские ноги и не человеческие ногти. А потом никаких разговоров не получится – внезапно вы выясните, что вам не о чем разговаривать.
Я смотрю на нее удивленно, не могу понять, что ей от меня нужно, они же были идеальны, они же кричали об этом на каждом углу, я всегда смеялась, когда они приходили ко мне вдвоем, а теперь она сидит одна у меня на кухне, и ее лицо совершенно змеиного, землистого осеннего цвета, как будто ее лицо было летом, а осенью лицо быть не может совсем и зимой тоже, просто либо лето, либо его отсутствие.
– Все идет правильно, все идет идеально, оно так и было, это как ехать по ровной дороге и все гладко, то есть нет, это даже как есть коробку конфет, а потом ты опускаешь туда пальцы – раз, а конфет уже нету. Нету больше конфет. Все конфеты скушали, вот такие дела. И совсем не сладко, и в некотором смысле внезапно, и такая вот пустота кругом. Пустая коробка.
Я слушаю и не могу поверить. Я предлагаю ей чай, но она не ведется, ей надо выговориться. Я пью чай одна, мне хорошо и спокойно, я бы включила музыку, но она будет плакать, я знаю.
– Я потом привыкла так думать. Я заставляла себя думать – конфеты не были плохими, они были офигенно вкусными, но они закончились. Теперь ты можешь купить другую коробку конфет, и они не будут конечно же такими же вкусными, но все равно конфеты же. И не думать, что те конфеты были ужасными. Просто их было не очень много. Вкус даже можно вспоминать. Особенно если остальные вкусы будут не такими клевыми.
– А если найти такие же? – Я пробую как-то разбить ее метафору.
– Такие же? Такие же конфеты? Но коробка пустая. Как я смогу наполнить эту коробку – пустую – такими же конфетами?
– А ты пересыпь их туда, – хихикаю я. – Типа купи новых и пересыпь. Вложи в ячейки аккуратненько. Вот и новая коробочка, ой-люли.
– Пересыпать! – наконец-то плачет она. – Люди – они не конфеты же, понимаешь?! Эмоции и опыт – не конфеты. Жизнь и то, что я чувствую сейчас, – не конфеты!
Я теряюсь:
– Ведь ты сама предложила мне эту метафору, вот я и начала ее развивать, чтобы довести до абсурда и как-то включить тебя в реальность, а то ты говоришь ужасы, а я не умею реагировать на такое.
– Угу, – говорит она, – все намного проще. Просто однажды утром он позвонил мне, и мы вдруг поняли, что нам не о чем говорить. Нам стало ужасно неловко. Днем он тоже позвонил мне, и тоже было как-то неловко. А вечером я уже ничего не чувствовала – вместо него была пустота. Когда он позвонил мне вечером и спросил, как я провела день, мне нечего было ему сказать, это как говорить какому-нибудь случайному человеку о том, как ты гуляла и делала покупки, – зачем это ему? Я просто перестала его узнавать, а он перестал узнавать меня. Эти вот конфеты были уникальными, их была только одна коробка вообще, одна-единственная на свете, и нету рецепта, по которому они делались, ничего нет, остались только наклейка на крышке и бумажки, много-много бумажек.
– И что ты будешь делать? – спрашиваю я. – В смысле, с коробкой.
– Я буду хранить в этой коробке каштаны, скрепки и сгоревшие спички. Или похороню в ней своего хомячка, когда он умрет. Или буду состригать туда немного волос каждую среду. Я придумаю что-нибудь, ага.
Это не девочка, это долбаный Форрест Гамп. Я не могу ее остановить, у нее психоз, сейчас она достанет нож и порешит меня. Они были вместе пять лет, этого достаточно для психоза. Вы только подумайте – пять лет они были вместе, жили тоже вместе, собирались пожениться и были просто идеально красивы, у меня сердце сжималось, когда я их видела, так никто никому не подходит вообще, такого не бывает. Они были вместе пять лет, а потом однажды он позвонил ей и сказал что-то чужим голосом, а она тоже вдруг поняла, что он ей чужой. Все кончилось абсолютно без повода, просто раз – и все. Горе, горе. Я пью чай и качаю головой: ооооой, горе какое. Невыносимое горе. И если бы знать, если бы знать.
А что тут знать? Ничего нельзя было узнать, поверьте мне.
Это как человек, знаете, шел себе по улице, а его сбила машина, и человек больше не идет, а лежит очень странно на этой же улице, а эта улица – последнее, на чем он вообще лежит при жизни, и это тоже правда, и многие люди первый и последний раз увидят его именно таким – как он лежит на улице, по которой мог бы еще идти и идти, но уже не пойдет никогда.
И это не значит, что жизнь человека была никчемной и глупой, и это даже не значит, что, если машину как-то откатить назад, руками ли, двигателем ли, он вдруг оживет и побежит по улице. Просто сколько человеку дали дней в руки, столько дней он в руках и пронес. И когда выпустил последний день из пальцев, стал неживой лежать на тротуаре. Это мог быть и автомобиль, и сердечный коллапс, и долгая дорога в химических дюнах. Тю, нах. Был человек и весь кончился. Может, это справедливо, а может, и нет. Скорее всего, нет. Но кто говорил, что все вокруг должно быть справедливо? Все вокруг должно быть прекрасно, а оно и есть прекрасно, а на остальное никто и не обращает внимания и не помнит уже через полгода.
Она ищет повод, ей нужны объяснения и зарубки на фалангах; фаланги, полные зарубок, в Одессу кости привозил; она рассказывает мне про какие-то смешные ссоры – передумал идти в кино, но не разрешил отдавать билет какому-то старому знакомому; позвонил, когда она замерзшая шла по улице и не могла взять трубку, пальцы синие совсем, а он ругался, орал страшно, она даже плакала; съел в холодильнике какой-то дорогущий йогурт, а она пошутила, а он обиделся; смешно, смешно, смешно.
Ждет, что позову ее куда-нибудь в клуб. Или напиться – ждет, что водки куплю и выжрем, и будем вспоминать. Или аналогичных историй, а то разорвется все, я знаю, так бывает.
Тут я нахожусь.
– Вы – мусор, – говорю я. – И ты, и он, со всеми своими слезами и воспоминаниями о холодных пальцах и неоплаченных счетах. Обычный человеческий мусор. У вас были отношения, они закончились, вы плачете. Разве вы не мусор, вот подумайте? Мусор выкинули из ведра в канаву. Жизнь его в ведре окончилась, он плачет. Он не увидит больше ведра, в канаве все иначе. Потом мусор сгниет и плакать перестанет. Но плач из канавы мы все равно будем слышать – это плачет другой мусор.
Я понимаю, что тоже несла какую-то чушь, но это не помешало нам смертельно поссориться. Она сказала, что я страшный человек с демонами внутри. Я сказала ей, что она несамодостаточная чувственная идиотка. Она ответила, что я эгоистка и не умею чувствовать. Я тогда выразила надежду на то, что она так и не найдет себе спутника жизни и не будет плодиться, что определенно есть благо для будущего человечества. А она тогда заплакала от злости и опрокинула какой-то вазончик. А я ей сказала, чтобы шагом марш из моего дома, этот, бляць, вазончик мне сестра подарила. И она ушла, и с тех пор я ее больше не видела. Даже когда очень старалась увидеть – не видела. Я таращила глаза, я колола себя булавками, но все равно в зеркале была просто чернота, огромное пятно черного света, и больше ничего: ни глаз, ни силуэта, ни морщинок около рта – ничего.