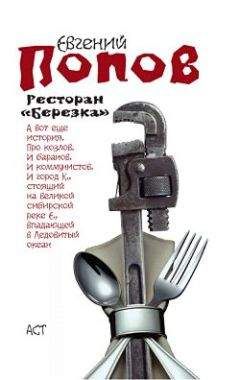– Привезли, привезли-и сынки иконку, – благостно, воровато-восторженно запел кривой старик, подходя ближе к столу и кивая на угол, – при-и-везли-и…
– Привезти-то привезли, – рисуясь внутренне, отвечал Головань, наливая в напёрсточные стакашики. – Только, кум, ежли б бык не выдавил тебе глаз, ты б разглядел, что то за иконка. То ж все наши Белки!
Кум качнулся было из-за стола уже, желая удостовериться, что ж то такое на самом деле, но Головань поймал его за локоть, вставил в сухую дроглую руку напёрсточек.
– Спервухи причастись. А то на тверёзый глаз всё одно не разберёшь.
Опрокидывались стаканчики, стучали вилки, пустело в тарелках…
Все вроде работали.
Однако работали как-то чересчур чинно, потерянно, пожалуй, даже несколько насторожённо. Не было той широкой славянской удали, когда под добрую вьпивку работается за праздничным столом в охотку, на верный износ.
Это вдруг обидело прижимистого Голованя.
Навалился он усердно подгонять гостей.
– Ну что ж ты, кум, так плохо ешь? – накатывался на Юраша, кривого старика. – Ешь, ешь, не жалей, как дома! Ешь, кум, на здоровье. Бери, бери вареники!
– Спасибы. Я уже и так десятый ем.
– Да не десятый, а пятнадцатый!
Кум коротко улыбнулся и всё равно рвения в еде не прибавил; всё так же печально-бережно взглядывал по временам на угол.
«Кривой, кривой, а своё нутром видит!» – перехватив щемливый кумов взгляд, подумал Головань.
Потихоньку снял рамку, как дорогой дар поставил перед стариками на стол, прислонив верхом к выпорожненной бутыли.
Пустил на проигрывателе «Верховину».
Притихло всё застолье, смято молчит, и неловко сделалось всем отчего-то смотреть друг на друга, будто все они, собравшиеся тут, виноваты перед этой заветной песней: никто не подымал глаза, всяк был с самим собой наедине, наедине со своими отважными мыслями, наедине со своими просторными мечтами, чьи крылья развязала эта песня, и были они далеко-далеко, были в том лазоревом краю, про который пелось – сами в неволе, хоть мечты на воле…
– Это ж каким надо быть человечищем, чтоб так…
У кума ещё красен, тяжёл единственный глаз. Кум просительно уставился на Петра, мол, подтверди, что вот только такие великанцы, как ты, и могут писать экое диво.
Петро, сидевший напротив, встал, обогнул застолье, навис над кумом горой, тесно продёрнул поленную ручищу меж тощенькими стариковскими плечиками, щёлкнул по карточке в центре рамки:
– Не обязательно быть как я… Довольно и такого. Это ж сам Михайло Машкин!
Неверяще, разочарованно косится кум на худого, подбористого дирижёра перед хором на берегу Боржавы (за цветастой, нарядной подковой хора колышатся хлеба, синеют горы), совсем упало вздыхает: не-е, этот мослак – щека щёку ест! – про Верховину так не напишет.
В судьи тянется к карточке второй дед, близорукий кряхтун, что пришёл с кумом.
В час по слову отстёгивает:
– Какой-то, ей-пра… несвалимый ваш этот Машкин. С добрыми капиталами подсыпались к нему, продай только «Верховину» свою сюда – наши гимном своим горели тут сделать! – ан ни в какую. Упёрся столбом. «Песню, – говорит, – у нас поют. Стало быть, песня уже наша. Не моя. А я чужим не торгую». Видал… Он что, богаче Рокфеллера?
– Богаче! У нас любой богаче Рокфеллера, потому как у всякого верховинского русина есть Родина. А Родину никакому залётному рокфеллеру не купить.
Головань-старшой торжествующе выставил указательный палец. Каково полоснул Пётрушка мой!
– Что ему ваши мильоны? – раздумчиво продолжал Петро. – К своей песне Михайло шёл через Дахау, Маутхаузен, Бухенвальд. Его лагерный номер знаете какой? 119367565! Был тогда Михайло ещё подросток. И всё то, какие он там мýки выстоял, и всё то, что с ним делали в тех концлагерях, ни за какие мильоны не выкупишь у сердца… Через много лет после войны пригласили Михайла на встречу узников Бухенвальда. Вспомнил Михайло про лагерь – тут же придавило горе: отнялась речь, три месяца не говорил… Кто знает, может, вином бил Михайло в себе прошлую военную беду, паленкой сковыривал с души свою концлагерщину… А то… Живая душа требовала выхода, и Михайло давал выход; случалось, отплясывал с братаном на столах в ресторанах ужгородских. А то – это уже в Белках, у меня на глазах – взял в буфете две бутылки русской, перекинул разом в два бокала. Бокалом в бокал стук: «Будь здоров, Машкин!» Без передыху высушил целый литр! Закусил рукавом и бегом во дворец: его ансамбль давал концерт самому Кенту[25], кончался перерыв… Добре выпивал… Только разгерметизирует одну бутылочку, смотришь, уже хлопочет над второй… Понесла малого водка, крепко понесла… Вот такой он, Михайло Машкин, разный, нескладный… Зато весь до донца наш… Не разменялся на золотые посулы…
И старые слезливые глаза горделивей, сердечней глянули на серьёзного на карточке Михаила, хрупкого, тоненького, как та хворостинка, что взлетела у него в руке вместо дирижёрской палочки.
– Деды! – отрывисто ухнул Петро и смолк, не зная, как подступиться к тому, к чему подступался, и, махнув рукой, – а-а, как скажу, так и скажется! – Деды! Я что-то нипочём не вбегу в толк… Тут, – ткнул круглым, как репка, пальцем в пластинку на диске открытого проигрывателя, – про счастливую долю Верховины. Это, если хотите, наш гимн. Позывными из этой песни начинает свои передачи верховинское радио, радио нашей Русинии. А вы заходились, чтоб это был ваш гимн. Не-е… – Петро повёл перед собой из стороны в сторону одубелой, наливной ладонью. – Гимны нам петь разные…
– Нет, сынку! – занозисто возразил отец. – Ты подчистую не прав! Что ж ты по живому отрезаешь нас от своей земелюшки? Сюда согнала нас вековая беда. Тутошние песни чужие нам. У нас с вами, сыну, песни однаковые… Верховинские…
Кум степенно поднёс к самому глазу рамку.
Рядом с Михаилом дыбились, сверкали с карточек знатные, на четыре стеклянных этажа, школа, универмаг; радостно, сочно смотрели из весёлых садов дома, молодые, царственно-роскошные, в рассыпанных по лицу, по фасаду, зеркалах-блёстках с кулак тщательно вмазанных в штукатурку средь радужного многоцветья мелких поделочных камней, красных, изумрудных, зелёных, голубых, коричневых, белых; размахнулись, широко проплёскивались меж кудрявых садов улицы, прямые, в глянце асфальта.
– Невжель в Белках такая правда? – вшёпот спрашивал себя кум, напряжённо, тягуче сбоку всматриваясь в карточки единственным глазом. – Может, тут столько правды, как в решете воды? Я ж помню… В грязюку на самодельных ходулях разве что и пройдёшь… А это… А это наснимали где в другом месте. Пропаганда…
– Попал, как слепой на стёжку! – победно вскричал Головань-старший, будто это он вчера из Белок. – Эк куда полез! Диковина, ядрён марш, ему асфальт! А вот это тоже пропаганда?
Кум долго, водянисто пялился, куда ему показали.
На бронзовый бюст.
Недоумевающе отстранился.
Снова подался к рамке.
– Невжель Юрко?
– Юрко, Юрко, – с ласковым, скользким смешком подсказал Иван. – Юрко Юрьевич Питра.
– Кум! Да он не со мной ли за свиньми ходил! – сражённый догадкой, пролепетал кривой старик.
– То ты, хлопче, ходил с ним за свиньми. А я был повыше вас в должности, – не без грустной иронии отмежевался от такой компании Головань-старший. – Я за овечушками надзор держал.
– Да Юрко был всех нас молодьше, в моём подчинении даже состоял, в подпасках бедовал батрачок, – торопливо, озарённо сыпал слова кривой старик, разгораясь, расцветая. – В Белках что, всем свинопасам памятники ставят?
– А раз заслужил человек… – На полгостиной раскинул Петро руки. – В самой Москве по съездам да по сессиям казакует. Как же! Верховный депутатища!.. Пять раз встречался с чумовым кукурузником Хрущёвым! С самим Брежневым пил собственную сливянку[26]!.. Сам гнал…
– Погоди. Не пылуй[27]! – отшатнулся сиротливо кум. – Везде Питра да Питра… Да-а… Лежачий камень мохнатеет. Он что у вас, Питра-то, Богом сейчас работает?
– Пока кукурузоводом. Звеньевой… По сто центнеров зерна ломит на круг! Лауреат государственной премии… 416 рублей 67 копеек отхватил! Три ордена Ленина… Дважды уже Герой Труда. За такое у нас при жизни полагается памятник. В Белках работает музей Питры. В цене хозяин земли.
– Хо-зя-ин! – с сарказмом, надрывчато процедил по слогам кум, пустив в свой голос всю стариковскую жёлчь. – Да он такой же хозяин земли, как я хозяин солнца!
Неожиданно выворотившееся сравнение глянулось самому куму.
На волос смягчился кум. Задумался.
Развела судьба двух свинопасов.
Один остался голодом кормиться.
Другой качнулся за океан принимать у умирающего деда ферму.
Тому памятник при жизни.
Этому…
Всю жизнь бился как рыба об лёд. Вёл концы к концам. Спустил с молотка всё под метёлочку Не выдержал, продал ферму. В бесславье добирает деньки свои живые.