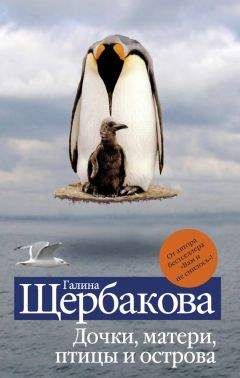Нюра
Нюру я не видела. На стене дворницкой в дешевых рамочках она была неулыбчива и сурова. Моя хозяйка называла ее тетей, которая ее воспитала с младых ногтей, когда родители Милы умерли в какой-то мор еще до войны. Ну, с какой стати мне, студентке четвертого курса, интересоваться прошлым мором и всем последующим? А могла бы, дура, и поинтересоваться, может, чужой опыт жизни прибавил бы ума и зоркости. Но разве смолоду мы бываем мудрыми? Я мечтала о любви, одевалась в магазине «Богатырь». Там были, пусть и в небольшом количестве, кофты и юбки пятьдесят второго размера. Среди богатырей я была не очень. Вещи были убогие, но сейчас я даже не соображу – это мои сегодняшние понятия или я и тогда это понимала? Думаю, нет. Бабушка, мама, женщина на фото, тетя Мила и еще тысячи женщин, которых я видела, одевались плохо, потому что хорошие вещи можно было купить с рук в специально приспособленных туалетах возле МХАТа, в ГУМе, но где бы я взяла такие деньги?
Но моя история не о моей бедности. Бедность – это общий фон жизни, который уже не замечают. Люди стыдливо-насмешливо перешагнули восьмидесятый, когда мы уже должны были жить при коммунизме. Может, таким и должно было быть осуществление мечты – равенство большинства в скудости существования?
Но я же не об этом! Чтоб вырулить к состоянию озноба и ужаса при имени Ефим Штеккер и тому, зачем он приехал и к чему я была, по мнению Елены Васильевны, причастна, мне надо вспомнить все о Нюре, мрачной женщине с серой фотографии, что висит в простой деревянной рамке.
Я о ней знаю со слов Милы очень мало. Но случайно я была в ее деревне Кучеровке. Там строили железнодорожную станцию. Там я проходила последнюю перед выпуском практику. Кучеровых, а такая фамилия у Милы, полдеревни. Старики помнили Нюру, которая бежала сюда в тридцать седьмом из Москвы с девчонкой. Там – словечко, там словечко… Песенка не складывалась. Так что за точность жизни Нюры я не ручаюсь. Детали. Девочку Нюра всегда стригла наголо. При немцах отдала в школу. Старики говорили: «Нюрка советской власти боялась больше, чем немцев. Что-то ей Москва сделала». – «Что, что… – бормочет старуха, у которой я на постое в деревне. – Она только-только в Москву приехала. Нашла место. По кухне там и с дитем. Ну, и секир башка всем. Такое было время, сталинское. А Нюрка его и в селе повидала. Ну и подумай сама».
Я узнала, что из того дома, двор которого мела Нюра, а сейчас метет Мила, в приснопамятное время увели семью, где Нюра была домработницей. Трехлетнюю младшенькую она буквально прикрыла широкой деревенской юбкой. Потом – не сразу, через войну – Нюра стала дворничихой, получив в полуподвале дома, где жили родители Милы, комнатенку. Девочку она сразу после спасения остригла наголо, одевала в ношеные вещи, которые выбрасывали жильцы. Сказала всем, что девчонка – сирота из ее деревни, и никто из дома не признал в существе из тряпок и без волос дочь уведенных ученых-ботаников. Считалось, что увели всех. Та девочка была буйно кудрявая, носила шелковые платьица и играла в колечко с палочкой, и ей не разрешали водиться с кем попало. А Нюрина девчонка стала Милкой-побирушкой, и дворничиха в целях конспирации способствовала дурным, или скажем не лучшим, поступкам девочки: можно было и попрошайничать, и рыться в мусорных баках, и приворовывать.
И я спрашивала и думала, думала и спрашивала.
Я ведь жила у этой женщины, которая говорила: «У меня болят корни волос. Меня в детстве всегда стригли наголо. Все боялись тифа».
Тиф – Сталин. Сталин – тиф. Это уже в моей голове, на которой волосы растут без боли, стучит мысль.
Она вышла тогда, когда опечатывали дверь, на раскоряченных ногах, между которыми замерла девчонка. В запущенном грязном подвале Нюра завернула ее во фланелевую юбку, сама осталась в исподней, благо та черного цвета, так и добралась до вокзала. В Кучеровке она тайно взяла чужую метрику племянницы-ровесницы и уехала в соседнюю деревню с неузнаваемым ребенком, не то мальчиком, не то девочкой. Там дождалась войны, абсолютно ее не боясь, ей казалось, что все страшное она уже видела, там Мила пошла в школу, которую немцы не закрыли. Нюра жила скрытно, она учила этому и девочку – бежать от людей, никому не верить, бояться всех. Она продолжала стричь ее наголо – будто от вшей. Это было понятно. Она соскабливала сходство с той кудрявой девчонкой, фотографию которой носила в лифчике. «Потому что так надо», – объясняла она себе это.
После войны Нюра опять поехала в Москву. В той квартире была коммуналка, а на дверях подъезда висело объявление: требуется дворник, жилье предоставляется. Комната в полуподвале оказалась той, в которой она переодевалась в тот страшный день. И она вернулась сюда.
Девчонка уже вовсю мела двор, когда у благодетельницы начали неметь ноги. Каждым летом, когда работники роно ходили и переписывали детей, Милка отправлялась в деревню как бы в помощь на сбор урожая, а возвращалась – школьная перепись уже была завершена. Нюра берегла девчонку только ей понятным способом. А кому она нужна была, эта как бы и не совсем нормальная девочка, чтобы так уж вникать особенно?
Всю свою оставшуюся жизнь Нюра была лучшим дворником района. А в окошке подвала часто видели стриженую девочку, разглядывавшую мир не выше колен, которая потом стала ее помощницей.
Видимо, Нюра истово верила в конец советской власти. Она молилась, чтоб ушли дьяволы. Она слабо надеялась, что вернутся хозяева с третьего этажа, хотя бы кто-нибудь из них! Ведь там было трое молодых парней, братьев девочки. Могли и выжить. С тринадцати лет Мила уже помогала ей собирать сухие ветки, протирать лавочки. К ней, тихой, привыкли, считали, что у нее не все дома. Но она была безвредна, и простая работа как раз по ней.
Нюра умерла от крупозного воспаления легких, работая при лютом морозе. Место досталось тихой Миле.
Она всю жизнь, уже после Нюры, метет двор и моет лестницу. Она понятия не имеет, какую стену между жизнью и ею выстроила тетя Нюра. «Ведь это только начни узнавать про то да се, – видимо, так думала покойная Нюра, – конца в этом не будет». Пережив коллективизацию, с ужасом слушая про шахтинское дело, когда ездила к дядьке-забойщику, а потом попав в Москву в самое начало репрессий, она не пошла работать ни на завод, ни на фабрику, она пошла в услужение. Она видела на вокзалах этапы, она видела сидящих на корточках людей, справлявших нужду под прицелом ружей.
Ну, случись счастливый конец и вернись родители после смерти дракона – другое дело. Вот вам целехонький ребенок. А раз не вернулись, то нечего ей и знать, как сворачивали шеи людям за просто так, а хозяин, дошел слух, замерз на лесоповале в первую же зиму. Правда – неправда, тогда этого не знал никто. И должно было прийти время Хрущева, чтоб можно было задавать вопросы на эту тему. Но опять же… Не Нюре же их задавать… Она любила девочку как свою и, да простит ее Бог, наверное была бы расстроена, вернись родители. Ну, если подумать. С ними Милка прожила три года, а с ней уже считай семнадцать. Это вам не халам-балам. Деревенский голод в войну, детские болезни все, как одна, прошли друг за дружкой. Три раза, после скарлатины, воспаления легких и дизентерии, буквально из гроба дитя вынимала. Ну и чья она после этого? И думать нечего. Ее, Нюрина.
Откуда ей было знать, что Мила, моя лестницу в подъезде, иногда замирала перед дверью на третьем этаже, за которой была самая большая коммуналка дома. Она что-то смутно помнила, как бы чуяла про эту дверь. Вот она стоит в душном мраке, и кто-то сжимает ей голову, и она, маленькая, понимает: это должно означать молчание и нешевеление. А когда они ходили по комнате, Мила семенила ножками, держась за круглую резинку для чулок Нюры, вдыхая неизвестный ей запах женской плоти, чуть сладковатый, дурманящий и почему-то стыдный.
Так пахла тетя Нюра, а из двери на третьем этаже пахло иначе. Каждый раз по-разному, но один тоненький такой сладкий дух возникал неожиданно. Иногда Миле хотелось об этом рассказать, но между спасительницей и спасенной правила говорить на неконкретные темы не было, как не было ласки, сюсюканья. Жизнь была строгой, аскетичной.
Однажды едва не случился мини-взрыв в их существовании. Пришел молодой парень с сумкой на плече и пачечкой книг на веревочке. Это было уже после смерти Сталина, Мила была уже барышня, то есть абсолютно ею не была. Пришелец был студент, искал угол.
– И где тебе тут угол? – строго спросила Нюра. – Нас двое. Третьему тут не быть.
Студент спросил, не знает ли она, кому в подъезде нужен жилец, уж очень ему удобен дом – факультет биологический близко, рукой подать…
– Не знаю, – сказала Нюра, – меня это не интересует. Походи ногами, поспрашивай.
– Можно я оставлю у вас свои бебехи? – спросил парень. – Плечо отдавил.
– Оставь, – милостиво разрешила Нюра.
Парень ушел. У Милы же почему-то нашлось дело на лестнице, и она шмыгнула следом. Нюра этого не заметила, ее глаз застрял на книжке из пачки, что в веревочке.