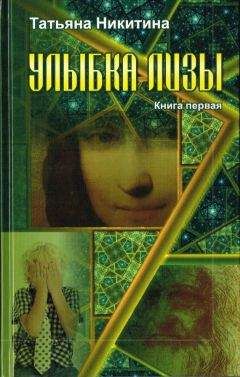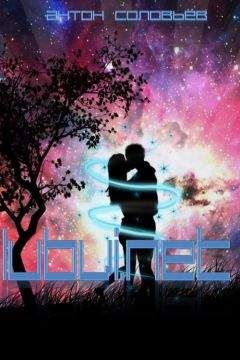Вокруг зависла неподвижная, плотная, почти осязаемая духота. Парило от стен домов и неприлично тесно сгрудившихся потных тел. Последнее – особенно напрягало Пола. Страшно хотелось пить, но нечего было и думать пробиться к киоскам. Пол боялся потерять в толпе Лизу. Одной рукой он крепко держал её за запястье, а другой щёлкал, не переставая, кнопкой новенького CANON. Он торопился сделать как можно больше снимков для репортажа: площадь, здание театра, люди на карнизах домов – плотными рядами, как птицы на высоковольтных проводах. Прощание с поэтом превращалось в политическую акцию гражданского неповиновения. Причёсанная и умытая, вычищенная к Олимпиаде Москва взъерошилась тысячами непокорных.
На площадь, раздвигая толпу, гусеницей вползла колонна грузовиков с брезентовым верхом. Откинув бортики, из них посыпались люди в белых форменных рубашках и в кепи с красными околышами. По-военному расторопно сгрузили металлические решётки, выставили конвой, оцепили площадь, отгородили театр. Внутрь теперь пропускали по два человека. Толпа возмущённо загудела, волной качнулась вперёд и снесла металлические заграждения, а малая часть её, как паста из тюбика, вдавилась в распахнутые двери театра. Металлический голос из рупора, сопровождаемый шумом и треском, настойчиво призывал всех разойтись.
Два милиционера, выполняя приказ, вскарабкались по фронтону театра. Расколотив дубинками стекло, сбивали чёрно-белый – тупоносыми ботинками в лицо поэта – фотопортрет в окне второго этажа.
– Что же вы, сволочи, делаете?! Оставьте его в покое! Фашисты! – выкрикнул из толпы мужской голос.
Сначала десятки, а потом всё больше голосов подхватили последнее слово и скандировали его с упоением, с ненавистью чётко проговаривая три слога. Появились пожарные машины. Людей разгоняли водой из брандспойта. Мощной струёй цветы смыло с тротуара. Раздавленные бутоны красных гвоздик и пурпурные лепестки роз поплыли под ноги толпе – в тусклом свете угасающего дня стекали кровавыми ручьями. Люди не расходились. Вынужденные топтаться по цветам, они превращали их в грязное месиво, скользили и падали на колени в свою растерзанную любовь к кумиру, подарившему им запах свободы.
Пол, приподняв Лизу, поставил её на подоконник высокого окна барочного особняка, увитого причудливыми барельефами. Девушка стояла в оконном проёме во весь рост – босая, в соблазнительно облепившем фигуру мокром платье. Тёмно-русые волосы потемнели от воды и змейками струились вдоль лица на плечи и спину. Блики света от уличных фонарей и автомобильных фар скользили по ней, выхватывая то блестящие медовокарие глаза, то восхитительно изогнутый кверху уголок рта. От стен, раскалённых дневной жарой и залитых холодной водой из пожарных шлангов, едва заметно парило, создавая вокруг неё чарующую дымку – волнующее марево таинственности, знаменитое пресловутое леонардовское сфумато. Арочный оконный проём в кудрявых завитках лепнины напоминал дорогую раму, в обрамлении которой стояла юная Джоконда, попавшая под дождь. Джоконда, шагнувшая с полотна сквозь века, но не та, всем известная, заточённая в саркофаге Лувра под бронированным стеклом, а другая – Айзе-луортская, которую Пол ещё подростком видел в доме Генри Пулитцера. Такой он и запомнил Лизу навсегда.
И все последующие семь дней в Москве существовала только она, словно не было больше никого вокруг. Она пахла травами, и ландышами, и солнечным лугом. Он запоминал её губами. Ночи были упоительно-бессонными, и дни тоже – переполненные счастьем. Неделя пролетела в сладком бреду. Он не задумывался о дальнейших отношениях, отдавшись лёгкому и пьянящему чувству, оставаясь, как всегда, верным себе: никаких планов и обещаний. Ему казалось, что он знал её всегда, ещё до Москвы. Сыграло ли здесь роль загадочное сходство?
Иногда Пол задаёт себе вопрос: в кого же он тогда влюбился – реальную Лизу или незнакомку, пленившую Леонардо? Ни подписи, ни имени, ни эскизов, нет упоминаний в записях – только портрет, с которым не захотел расстаться. Может, Пол, как и другие, оказался под гипнотической властью романтизированной легенды? «Улыбка, в которую опасно влюбиться, но не влюбиться нельзя», – подумал он чужими словами. Но неужели тайна обаяния женщины, её вечная суть шифруется мимикой, особенным сокращением лицевых мышц? Пол осознаёт абсолютную случайность их встречи. Если бы не загадочное сходство Лизы с той женщиной, в которую когда-то был влюблён средневековый художник, вряд ли бы он обратил на неё внимание. «Благословление Леонардо, – усмехается он и спрашивает себя: – А если бы повстречалась другая, похожая на… да хотя бы на Чечилию Галлерани?» Но он не любит сослагательное наклонение, предпочитая утвердительную форму.
Их семидневная любовь оборвалась внезапно. Они случайно встретились, но также и расстались. Оба случая, как близнецовая пара, как двойники, как Лиза и Джоконда.
Эрмитаж и основную регату на Неве Пол планировал заранее. Оказалось, Лиза никогда не бывала в Ленинграде. Накануне события, перевернувшего их жизнь, он купил два билета на вечернюю «Красную стрелу» до Ленинграда. Лиза уехала утром в Химки забрать кое-что из вещей, оставленных у родственников. За час до отправления поезда они должны были встретиться на перроне Ленинградского вокзала.
Ресторан отеля, куда Пол спустился позавтракать, был почти пуст, а его ожидал сюрприз. За крайним столиком у окна сидел перед рюмкой коньяка и что-то быстро строчил в блокноте Иржи Скорцела – вечно взъерошенный синеглазый чех, злой, непримиримый ко всякой лжи. На Олимпиаду Иржи приехал с аккредитацией журналиста от французской «LE FIGARO». Он эмигрировал из Праги во Францию двенадцать лет назад. Пражская весна определила его судьбу. Унижение, испытанное им в те дни от беспомощности перед танками на Староместской площади, он так и не смог простить. Несмотря на то, что в эмиграции всё у него сложилось чудесным образом – получил университетское образование в Сорбонне, работу в престижном журнале и жил в лучшем городе Европы, – Иржи ничего не забыл.
Пол, напротив, был миролюбив. Заснеженная и загадочная «одна шестая часть суши» давно будоражила его воображение. Он немного знал о советской империи – только то, что освещалось в американской прессе, но хорошо понимал, что такое пропаганда. И ещё он привык безоговорочно доверять только своим глазам и ушам. Будучи человеком мыслящим, считал необходимым критиковать правительство и президента. Объявленный Картером бойкот Московской Олимпиады, разумеется, не поддерживал. Поэтому в Москву приехал как рядовой американец, искренне веря, что железный занавес может рухнуть, если народы будут встречаться в честной спортивной борьбе, не замешанной на политических интригах. Ну чем не «посол мира»? Во всяком случае, ещё вчера он ощущал себя таковым, а сегодня, неторопливо потягивая грузинское вино в ожидании бифштекса нужной прожарки, рассказывал другу об увиденном на Таганской площади. Привыкший полагаться лишь на собственные ощущения, он получил наглядный урок расправы над инакомыслием, впитал его всеми чувствами, включая осязание и обоняние.
– Я понял, люди могут простить многое, но только не своё унижение, – делился он с Иржи. Тот снисходительно подтрунивал над его политической наивностью, но Пол не пытался протестовать и обижаться, всё ещё пребывая в плену эмоций. – Никто не забывает и не прощает унижения, – повторил он.
– Да, но не рабы, привычные целовать свои кандалы… Хочешь новых впечатлений? – засмеялся Иржи.
Профессиональное любопытство победило – Пол не устоял перед возможностью запечатлеть на фото и другие факты попрания свободы, а по возвращении домой сделать пару громких репортажей.
– К вечеру вернёмся, – заверил его чешский друг.
Двое молчаливых русских, Сергей и Слава на раздолбаном авто, которое они называли «шестёркой», подхватили их с Иржи у отеля. Они долго ехали по Ярославскому шоссе, миновали коробки скучных новостроек и промзону с подстанциями электроустановок, разрушенные корпуса завода, дымящие жерла тепло-станции, башни элеватора и золотистые барханы зерна. Потом пошли нищие деревни. Ни газонов, ни клумб, ни асфальта. Вокруг приземистых, вросших в землю домов, почерневших от времени (и беспробудного пьянства хозяев), только ряды окученного картофеля. Пол заметил, что дома в России старятся также некрасиво, как и люди – до срока превращаясь в рухлядь.
– За сто первый километр, – усмехнувшись, ответил ему Сергей на вопрос, куда они едут. Хотя по спидометру уже отмахали все двести, удивился Пол, а Иржи пояснил:
– Советская метафора. Русские так называют выдворение за пределы Москвы нежелательных элементов.
Часа через полтора свернули с шоссе на просёлочную дорогу, километров десять проскакали по ухабистым рытвинам и вынырнули за лесом в чистом поле, заросшем бурьяном. Невдалеке три полуразвалившихся барака из красного кирпича, крытых чёрно-рябым замшелым шифером. Территория обнесена колючей проволокой в рост человека, но ни смотровых вышек по углам, ни конвойных с автоматами Калашникова и собаками Пол не заметил. Возле бараков бродили люди. Они здесь жили. Ветер полоскал брюки, трусы и рубахи, развешанные на провисших проводах между столбами линии электропередач. Из котелков над кострами поднимался пар. Рядом играли дети.