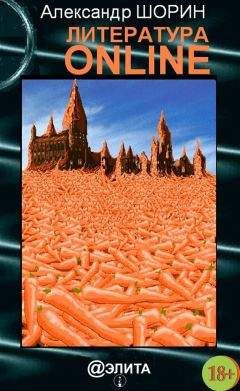Я снова киваю: Игорёк – вожатый хороший, добрый, но наказывать умеет, если надо, это мы все уже уяснили.
А он продолжает:
– Ты же из моего отряда, если расскажу, что застал тебя ночью, мне же и выволочка будет. Не бойся, никому не скажу. Сам хорош (он вздохнул): упёрся ночью в лес, вас без присмотра оставил…
Я смотрю на него с безмерным удивлением. Говорю осторожно:
– Это из-за Вовика, он снова обоссался.
Игорёк улыбается:
– Да, это важная причина. Я завтра свожу его к медикам, а к следующей ночи положу на нижний ярус. Вот и решится проблема.
И тут мне вдруг становится так хорошо и тепло у этого костра, что даже слёзы на глаза наворачиваются.
– Вы это… Извините меня, что сбежал. Я не хотел, случайно получилось…
Он глядит на меня как-то странно и спрашивает неожиданно:
– А можно я тебе задам вопрос, который меня очень мучает?
Я заморгал. Так со мной ещё никто из взрослых не говорил. Даже дедушка.
– Понимаешь, – продолжает он, – я ведь тоже когда-то был мальчиком вроде тебя и тоже бывал в летних лагерях. Многое мне там не нравилось: дисциплина, подъёмы по утрам, разборки в палате с другими ребятами после отбоя… Ну, ты понимаешь?
Киваю.
– Думал тогда: вырасту и обязательно придумаю, как без этого всего обойтись. И вот понимаешь… вырос, а как всё это изменить – не знаю. Хочется к вам по-хорошему, по-доброму, но ведь тогда уважать никто не будет, упадёт дисциплина и лучше никому не будет. Да и я – всего лишь вожатый, а не директор лагеря… Но хочется что-то придумать. Ну… теоретически.
– Придумали?
– Да нет, думаю пока, потому и спрашиваю…
И тут (что на меня нашло?) я ему такое загнул, что он аж примолк.
– В общем, так, – говорю, – во-первых, в правильном лагере не должно быть больших палат, а комнаты, как в гостинице, хочешь – один живи, хочешь – с другом. Или с двумя друзьями. Во-вторых, никаких подъёмов и отбоев: каждый встаёт и ложится, когда хочет. И в столовую тоже приходит, когда хочет – пусть там кормят круглосуточно. Дискотеки – до утра. И ещё это… комп и телик в каждой комнате.
Игорёк в ответ рассмеялся:
– Ну… Тогда это будет уже не детский лагерь, а санаторий. Взрослые ведь примерно так и отдыхают.
– Ну да. А нам почему нельзя?
– Потому что вы… ещё дети, – сказал он неуверенно.
– А дети – не люди что ли?
– Люди. Только ещё маленькие, неорганизованные.
– Можно подумать, вы организованные…
Сказал и тут же пожалел об этом. Он ко мне как к человеку, а я…
Но он не обиделся:
– Наверное, ты прав. И вам, и нам, взрослым, хочется свободы. Только мы свою свободу уже научились сами для себя ограничивать, а вы ещё нет. Вот мы вас и… учим.
Он вздохнул и продолжил:
– Утопия, которая невозможна. На то она и утопия.
Что значит «утопия», я узнал только через много лет.
Игорёк сдержал свое слово: о моем побеге никто не узнал. А через неделю случилась трагедия: он утонул. Так и не выяснили, как это случилось: просто он пропал и всё. Только через несколько дней в лагерь просочились слухи, что выловили тело ниже по течению. Этот случай стал одной из самых больших трагедий моего детства.
Я поступил в педколледж и на практику поехал работать вожатым в лагерь. Там я сразу осознал и важность дисциплины, и необходимость ограничения свобод. Всё так, но вот ночной наш разговор с Игорьком никак не шёл у меня из головы. Частенько мне казалось, что он всё-таки что-то придумал, но вот рассказать никому не успел.
И вот однажды, когда мне не спалось ночью, я вышел из палаты и пошел к реке через знакомую дырку в заборе. Нашел место на берегу со старым костровищем, развёл огонь и долго сидел в задумчивости, пока в углях зрела печёная картошка. Неожиданно сзади послышался шорох, и я каким-то шестым чувством угадал, что там кто-то есть. Повернувшись, разглядел детский силуэт. Прежде чем подумать что-то, крикнул:
– Стой!
Силуэт испуганно застыл, а я поднялся и медленно пошёл в его сторону.
В голове при этом вертелось только одно слово: утопия.
Там, где и сегодня, в начале ХХI века, ты не найдешь почти никаких следов современного прогресса, где стоят пустые деревни, а те, что выжили, щербят развалинами когда-то крепких домов, как сгнившими зубами, на улыбках улиц; где молодежь разъехалась по городам, мужики работают на вахтах, а их бабы, чтоб не быть обузой, воспитывают чужих детей, получая за это копейки от государства, именно там он расцвёл.
Его звали Данил, и в свои восемь лет он не представлял собой ничего примечательного: удивлял новую маму (а скорее – бабушку, потому как ей уже было шестьдесят) тем, что прятал печенье, а макароны и пельмени ел руками; тем, что мог накакать прямо в штаны. Читать не умел вовсе, а по национальности был хамшид: так было написано в его бумагах. Софья Георгиевна, женщина взглядов строгих даже по деревенским меркам, заявляла в приют: «Ребенок неадекватный!», но её уговаривали оставить мальчика. И уговорили.
А скоро новый папа (скорее – дед) открыл в нём редкий талант. Бывший механизатор, а ныне пенсионер и, по совместительству, скотник, дед Саша, как все его тут называли, имел всего одно увлечение, кроме выпивки: он лучше всех в деревне играл в шахматы. Любил прихвастнуть, что занял как-то в районе призовое место в турнире и выполнил норму перворазрядника, да вот подтвердить это никто не мог. Впрочем, чтоб быть знаменитым, и того ему хватало. Он-то и показал Данилке шахматы.
Мальчик, доселе то апатичный, то чрезмерно ретивый, на этот раз проявил сосредоточенность: в считанные минуты он смог повторить за дедом ходы фигур и даже понял, чем шах отличается от мата.
Дед Саша, весьма удивлённый, предложил ему партию… И опомниться не успел, как остался с голым королем, которого мальчонка азартно гонял ладьями по доске. Хитрый дед попробовал было залезть в пат, но не тут-то было: расставив башен по диагонали друг от друга, Данил его таки добил!
Конечно, дед захотел реванша. И… опять проиграл!
Тут надо отметить особенность этих первых партий, которая потом всегда поражала противников Данила Караибрагимова: как и все, он ошибался. И не просто ошибался – ошибался порой роковым образом: мог в начале партии зевнуть ферзя, мог разыграть чёрт-те знает какой проигрышный дебют, мог оголить короля, мог… Мог допустить любую из тех ошибок, что присуща начинающему игроку. Но он… выигрывал!
На десятой партии дед Саша не выдержал: заявив, что мальцу не иначе как «сатана ворожит», он ударом руки опрокинул доску и сотворил нечто такое, чего не позволял себе даже пьяным – закурил в избе. И мало того что закурил: в ответ на замечание супруги, высказанное в недвусмысленной форме, он – подкаблучник со стажем – вдруг так цыкнул на свою вторую половину, что та выскочила во двор от греха подальше. Дед закурил… и стал думать.
* * *
Районный центр славился всего двумя видами спорта: самбо и шахматами – и это несмотря на то, что выше перворазрядника из местных так никто и не поднялся. Ходила легенда о том, как здесь как-то высадили «под ноль» заезжего гроссмейстера, рискнувшего на сеанс одновременной. В общем, играть тут умели.
Дед Саша, накануне проэкзаменовавший своего ученика на предмет знания правильных ходов фигур, рокировки и даже «пешки на проходе», волновался как никогда: он знал уровень местных, неказистых с виду, мужиков и боялся позора. Нервно он поддергивал Даньке новые штаны, затянутые ремнём, чтоб не спадали, и спрашивал:
– Волнуешься, а? Волнуешься?
Тот был как раз в стадии флегмы и на все вопросы просто кивал, он вообще был неразговорчив: набор активных слов этого мальчугана можно было считать по пальцам рук и ног, как, впрочем, и способности в счёте.
Даньку посадили напротив другого школьника – мальчишки класса из шестого, который силился играть на уровне взрослых с переменным успехом. На мелкого, коротко остриженного противника с лицом пастушка с гор, шестиклассник взглянул пренебрежительно.
А дед Саша, впервые наблюдавший за игрой своего сорванца со стороны, едва ли не икал.
– М-можно о-н бб-без чч-асов? – спросил он у школьника.
Пренебрежение в ответном взгляде говорило лучше всяких слов, а в ответе сквозила брезгливость:
– Без часов не играю.
И пришлось деду на ходу объяснять мальчишке, как давить на шахматные часы. Впрочем, проблема была не в этом, хотя до часов тот дотягивался с трудом, да и жал их с опаской, неуверенно. Проблема, едва не стоившая старому шахматисту сердечного приступа, заключалась в том, что шестиклассник у его ученика начал просто-напросто есть фигуру за фигурой. Это была игра в поддавки… Когда у Даньки остался слон, два коня и три пешки, он просто отошёл в сторону, кляня себя последними словами. И… прозевал самое интересное!
Один из тех завсегдатаев клуба, что не пропустит партии новичка, какой бы та ни была блёклой, вдруг издал такой громкий стон, что вокруг доски образовалась толпа. С трудом протолкавшись, дед Саша понял, в чем дело: король шестиклассника, запертый его собственными фигурами, стоял под ударом коня. Это был мат! Весь красный от негодования, тот требовал ещё партии. Но его уже оттеснили.