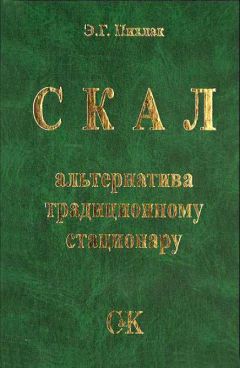– Филипп, ты что? – Ахмет посветил ему в лицо.
– Болею, – натужно прошептал Полонский. – Хреново мне.
– Молод ты еще болеть, – укорил его сержант.
– Ничего и не молод. – Солдат облизал губы. – Я в этом корыте лет на сорок постарел. Возраст на желудок давит, Ахмет. Старость не за горами.
– Эй, вы там!.. – Затулин покосился в темноту. – Принесите ему на старости стакан воды. Вернее, полстакана. И таблетку от желудка.
– Точно! – Полонский затрясся в истеричном хохоте. – Тащите таблетку от желудка. Пусть он развалится к чертовой матери. От него и так уже ничего не осталось.
– Аспирин пойдет? – деловито осведомился Серега, роясь в аптечке.
– Пойдет, – прошептал Полонский. – Мне уже любая хрень годится.
– Ничего, боец, – успокаивал его Федорчук. – Время вылечит, все в порядке будет.
– Конечно, вылечит, Вовка. – От нестерпимой боли у Полонского разыгралось чувство юмора. – Мертвым, знаешь ли, хворь вообще по барабану.
Его накормили таблетками, дали попить воды. Он успокоился, откинул голову. Рези в желудке стали терпимыми.
– Спасибо, друзья, – едва прошептал парень. – Вам воздастся за вашу доброту. Нет, действительно, завтра или послезавтра, но точно воздастся.
Наутро ничего не воздалось. Солдаты вырастали сумрачными призраками из надоевших «могил», умывались соленой водой, вяло обсуждали последствия вчерашнего ужина. Ахмет объявил, что сегодня бойцы тоже вправе рассчитывать на завтрак, и принялся растапливать печку. Федорчук и Серега оживились, уселись за стол, стали ждать. Серега перелистывал солдатскую книжку, удостоверение личности, которое обязан иметь каждый военнослужащий. Федорчук достал свою, извлек из нее замызганные фотографии и стал совать их Сереге. Мол, глянь, это я, а вот родители.
– Снова сапоги на завтрак, – патетично простонал Полонский, отклеиваясь от подушки.
Он поднялся самым последним, блуждал по кубрику, спотыкаясь о баки и тазики, бормотал, что после вчерашнего заболел агрессивной формой лунатизма и к нему лучше не подходить. Убивать товарищей вроде не за что, но так хочется!
– Ожил. – Ахмет ухмыльнулся, водружая котелок на печку. – Теперь жить будет. Хотя какая это, к лешему, жизнь.
– А это я с женой в нашем саду. – Федорчук совал Сереге фотографию. – Но на меня не смотри, фото плохо получилось.
– Это ты плохо получился, – ядовито проурчал Филипп, подглядывая Вовке через плечо. – Ого, да на фото, я так понимаю, еще и твои нерожденные дети?
– Какие дети? – забеспокоился Федорчук. – Нет здесь никаких детей. У меня вообще нет детей…
– А у жены в животе что?
– Живот…
Хрюкнул Затулин, едва не опрокинув котелок. Федорчук обиделся.
Полонский не стал извиняться, рухнул на свободную табуретку, плаксиво вздохнул и заявил:
– Ладно, товарищи солдаты, будь что будет. Сапоги так сапоги. Тащите ваши изысканные деликатесы. Помирать так с музыкой.
– Умываться не пойдешь? – покосился на него Серега.
– Когда-то я умывался, – вздохнул Филипп. – Потом мне это надоело. А знаете… – Он на минутку задумался. – В принципе, если не считать моего взбунтовавшегося желудка, самочувствие нормальное. Такое ощущение, будто вчера мы действительно что-то съели.
В этот день узники дрейфующей баржи доели остаток командирского ремня и уничтожили половину первого сапога. Желудки временами возмущались, но в итоге махнули рукой на своих обладателей. А ночью парни проснулись от жуткого грохота! Разверзлись хляби небесные прямо над баржей, свирепствовал гром, сильный дождь стучал по палубе.
– Подъем, золотая рота! – приказал Затулин. – Хватайте тазики, миски, живо наверх. Собираем дождевую воду!
Возбужденные солдаты бросились кто куда. Было много шума, лишних движений, восторженных отзывов о погоде, сделавшей ребятам такой роскошный подарок. Шторм разгуляться не успел. Просто подошла одна-единственная туча и устроила локальное светопреставление. Сверкали молнии, дождь стоял косой стеной.
– Я же говорил, что воздастся! – Филипп радостно рассмеялся. – Вот и воздалось, так вас растак!
Солдаты падали на палубу, подставляли лица тугим струям, стонали от наслаждения, жадно глотали сладковатую дождевую воду.
– А ну, не лежать мне тут! – разорялся Затулин. – Воду собирайте, ленивцы! Подъем, за работу!
Парни бросились расставлять посуду на палубе. Серега заковылял к рубке, с которой вода стекала сплошной струей, поскользнулся и загремел. Ведро, словно знамя, выпавшее из рук убитого героя, перехватил Федорчук, подставил под струю. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. Светопреставление оборвалось. Ветер прогнал излившуюся тучу, и на иссиня-черном небе зажглись звезды. Солдаты стонали от разочарования. Они успели напиться до отвала, но воды набрали немного. Бойцы ползали по палубе, волоча вздувшиеся животы, слизывали влагу с ржавого настила, потом сливали воду в ведра, подсчитывали прибыль. Набралось полтора ведра – лучше, чем ничего, но вышло бы больше, успей они среагировать раньше.
– Ничего, мужики, ничего, – оптимистично бурчал сержант. – Живы будем, не помрем. Не последний дождь – еще соберем.
Но, к великому огорчению, этот дождь оказался последним. В районе, куда их сносило, стоял сухой безветренный сезон. Проснувшись утром, они обнаружили, что палуба раскалилась докрасна, а на небе – ни облачка. На море царствовал мертвый штиль. Температура поднималась неуклонно. По-видимому, баржа входила в тропические широты. Находиться на солнце было невозможно, снова просыпалась жажда. В кубрике тоже не было спасения. Дважды в сутки приходилось затапливать печь, и во внутренних помещениях царила убийственная влажная парная. Недостатка в растопке не было. Полонский, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил разобрать рубку, внутренняя обшивка которой почти полностью состояла из дерева. Норму потребления воды немного подняли, но через несколько дней ее опять пришлось понизить. Заканчивался запас, собранный в грозу.
По ночам ребята перемещались на палубу, спали под звездами. Здесь было не жарко и удобнее. Днем они забирались в трюм, где устроили себе еще одно лежбище, благо недостатка в матрасах и покрывалах не было. Только ради приготовления пищи бойцы тащились в кубрик.
Излишне говорить, что за все эти дни на горизонте не возникло ни одного суденышка. Полонский недоумевал: где все? Из зоны стрельб баржа давно ушла, да и срок, отпущенный советским правительством, уже истекал. Не может такого быть, чтобы суда не бороздили просторы Тихого океана. Течение Куросио, возможно, и не подарок, но разве могут от него отклоняться судоходные пути, если оно пересекает половину океана? Куда несет баржу? В Мексику? В Чили? До Америки еще хлебать и хлебать. Ребята несколько раз успеют умереть от голода и жажды.
Но факт оставался фактом – баржа в океане под раскаленным солнцем была одна. 16 февраля Филипп Полонский сделал на стене тридцатую зарубку и заявил, что по этому поводу надо выпить. Но наступило время безжалостной экономии воды. Голод слегка притупился. Дневную норму на всю компанию составляла половинка ремня и полсапога. К 20 февраля все поясные ремни были съедены, в ход пошли ремешки от часов и от рации. Жизнь так называемая пища поддерживала, но сил не добавляла. Они таяли с каждым днем. Ко дню Советской армии и Военно-морского флота в арсенале пленников баржи остались четыре пары кирзовых сапог и литров шесть воды, не считая литра зловонной мазутной жижи. Возвращалась прежняя драконовская норма – полкружки воды на брата. Прием пищи опять производился раз в день.
Рыба не ловилась, хотя Серега продолжал периодически забрасывать удочку. Несколько раз солдаты наблюдали за кормой плавники акул, но близко эти твари не подходили и преследованием не увлекались. Филипп и Федорчук соорудили из брезента навес перед рубкой, вбили в настил шесты, и теперь основную часть времени парни проводили на свежем воздухе, валяясь без движений на матрасах. В два часа дня по команде поднимались, брели в кубрик готовить очередной сапог. Животы давно ввалились, лица осунулись, истончалась кожа, обтянувшая скулы. Топорщилась растительность на лице. Движения становились замедленными, не поспевали за командами мозга.
23 февраля был обычный день. Солнце встало рано, озарило спящую четверку. Заворочался Ахмет, пополз подальше – в тень. Пробираясь мимо Сереги, он обратил внимание, что глаза у того открыты, с каким-то суеверным страхом взирают на товарища, а сам он не шевелится.
– Ты чего? – насторожился Затулин.
– Ахмет, я пошевелиться не могу, – испуганно прохрипел Серега. – Проснулся, а двинуться неспособен. Губы едва работают, голова не вращается. Страшно, на грудь что-то давит, дышать трудно.
По зову Ахмета проснулись остальные, подползли. Глаза у Сереги беспомощно вращались, кадык ходил ходуном. Он реально не мог пошевелиться, сколько ни тужился.