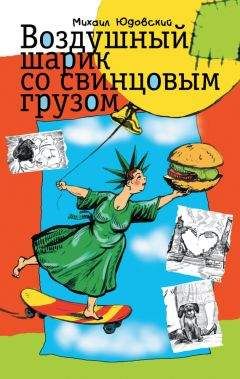– Это вы мне? – на всякий случай переспросил Илья Наумович.
– А будь кому, – щедро ответил глава, закусывая маринованным грибочком. – У нас, слава Богу, уси нацийи равни.
Илья Наумович, погрустневший и совершенно ошеломленный, покинул Ивана Даниловича и вышел на длинный, идущий вдоль всего этажа балкон. На балконе, опершись о колонну, стоял его свидетель Павлуша и с философским спокойствием лузгал семечки.
– Павлуша, – сказал Илья Наумович, – у тебя закурить есть?
– А вы хиба курытэ? – удивился Павлуша.
– Якбы курыв, свои булы б. Так есть у тебя сигареты?
– Нэма, Илья Наумовыч. Я оцю пакость николы до рота нэ совав. Семочек хочэтэ?
– Нет, Павлуша, семочек не хочу.
– А чого цэ вы такый сумный, начэ у вас хата сгорила?
– А хоть бы и сгорела, Павлуша. Только вот гореть нечему. Не дают нам с Дуней хаты. Живите, говорят, в своем клубе. Или к теще переезжайте.
– Нэ дай Боже, – перекрестился полной жменей семечек Павлуша.
– Вот ты меня понимаешь. Это теперь она притихла, а как мы к ней переедем, и меня съест, и Дуню съест, и мужем Петром Васильевичем закусит.
– Вона така, – подтвердил Павлуша. – Аппэтыт добрый мае.
– А в гримерке клубной с молодой женой – как? – продолжал размышлять вслух Илья Наумович. – Невеста – одно дело, а жена… А дети пойдут…
– Дети – це хорошо, – сказал Павлуша.
– Кто ж спорит… Будут по клубу бегать и в гримерке на горшок ходить… Ладно, Павлуша, пойдем к гостям.
– Вы идить, – ответил Павлуша, – а я щэ трохы полузгаю.
Илья Наумович вернулся в зал. Гости продолжали угощаться и отплясывать, Дуня сидела печальная, а рядом с нею примостилась Алена Тарасовна и что-то яростно, делая страшные глаза, втолковывала дочери. Илья Наумович бросил на тещу такой свирепый взгляд, что та мгновенно осеклась, недовыплюнув отравленное слово, и на всякий случай ретировалась подальше.
– Скучаешь, богиня моя? – нежно спросил Илья Наумович у Дуни. – Бросил тебя пакостный муж, удрал куда-то и адреса не оставил?
– Та ну вас, Илья Наумовыч, – полуиспуганно-полужеманно ответила Дуня. – Скажэтэ такэ… Абы налякаты…
– Дунечка, – улыбнулся Илья Наумович, – ты так и будешь всю жизнь называть меня на «вы» и по имени-отчеству? Представь, родятся у нас детки, и ты при них станешь мне кричать: «Илья Наумович, идите кушать яичницу!» Они ж подумают, что я им посторонний.
– Та я щэ нэ звыкла, – покраснела Дуня.
– Ты меня, главное, сегодня ночью Ильей Наумовичем не назови. А то я так на брачном ложе подпрыгну, что весь наш Дом культуры развалится.
При упоминании о брачном ложе Дуняша сделалась вовсе свекольной.
– А мама-то твоя неправа, – продолжал Илья Наумович. – Зря она меня юродивым называла. Юродивые чудеса творили, кровопролития останавливали. А твой муж обычной квартиры вымолить для нас не сумел. Баран он вислоухий, а не юродивый.
– Може, нэ про то молился? – сказала Дуня.
– А про что надо было?
– Ну я нэ знаю… Та ничого, Ильшенька, як-нэбудь проживэмо.
Илья Наумович на мгновение застыл, глядя на Дуню.
– Беру свои слова назад, – проговорил он. – Твоя мать была права. Нет, не про меня – про тебя. Ты не просто богиня, ты всем богиням богиня. А пойдем-ка потанцуем. Свадьба у нас или как…
– Та шо з мэнэ за танцюрыстка… Люды ж смиятыся будуть.
– И пусть смеются. Пусть смотрят на нас и смеются. На свадьбе должно быть весело.
Он взял Дуню за руку и повел ее в центр зала, где подвыпившее гости уже отплясывали какую-то фантастическую смесь гопака и черт знает чего под импровизации местного баяниста.
– Расступитесь-ка! – скомандовал Илья Наумович. – Молодые вальс танцевать будут. К слабонервным просьба удалиться. Маэстро, сделайте нам музыку.
Баянист, глянув на молодых, выпил рюмку водки, перекрестился и заиграл «Амурские волны». Еще ни на одной свадьбе не было такого удивительного вальса. Маленький жених, обхватив невероятную в благородном дородстве невесту, кружил ее по залу, как отважный муравей, несущий на себе нечто непомерное и невообразимое. Ноша выглядела неподатливой, казалось, что она вот-вот раздавит муравья. Полы белого свадебного платья развевались, смахивая в кружении тарелки и рюмки со столов, опрокидывая стулья и тех из гостей, кто и так уже не слишком твердо держался но ногах. А потом случилось чудо: муравей и ноша слились вдруг в одно целое и превратились в маленькую барку под огромным белым парусом, которая смело рассекала поднявшиеся волны, то ныряя в них, то взлетая на самый гребень.
– Илюшенька, посады мэнэ куды-нэбудь, – прошептала Дуня, – бо мы тут зараз усэ розтрощым…
Илья Наумович бережно подвел Дуню к стоявшему у балконного окна стулу, усадил на него, галантно поцеловал ей руку, а затем нежно в губы. В балконное стекло постучали. Илья Наумович поднял голову и увидел в окне перепачканную физионимию Павлуши.
– Тебе чего? – одними губами произнес Илья Наумович.
Павлуша энергично зажестикулировал, приглашая Илью Наумовича выйти к нему на балкон. Илья Наумович покачал головою. Павлуша повторил приглашение. Илья Наумович покрутил пальцем у виска.
– Дунечка, прости меня, – сказал он. – Я на секунду.
Меня тут один сумасшедший в гости зовет.
– Хто? – испугалась Дуня. – Куды?
– Да Павлуша. На балкон. Неймется ему чего-то. Я ненадолго.
Он еще раз поцеловал Дуню и вышел на балкон к Павлуше.
– Ну чего тебе? – сердито спросил он.
– Я это… За сыгарэткамы для вас збигав.
– Какими еще сигаретками?
– Так вы ж это… курыты хотилы.
– Да какие ж теперь сигареты? Закрыто все.
– Ага… всэ позакрывалы, куркули. Нэма сыгарэт, Илья Наумовыч. Може, семочек будете?
– Павлуша, дай тебе Бог здоровья, – покачал головой Илья Наумович. – Ладно, сыпь свои семечки. Ты где так перемазался?
– Так упав… колы за сыгарэтамы вам бигав, – ответил Павлуша, отсыпая Илье Наумовичу пригоршню семечек. – Така грязюка, така грязюка…
Они встали у балконных перил, лузгая семечки и сплевывая вниз шелуху. Небо над городком почернело и порябело от высыпавших на нем звезд. Тихо журчала извилистая речка, сонно шелестели деревья, а над их верхушками плыло красивое зарево.
– Это что там за огонь? – словно очнувшись, удивился Илья Наумович.
– Мабуть, горыть щось, – лениво ответил Павлуша.
– Так там же вроде наш Дом культуры стоит!
– Ну, значыть, вин и горыть.
– Павлуша! – Илья Наумович строго глянул на молодого увальня. – Ну-ка, посмотри мне в глаза. Ты куда бегал?
– Так за сыгарэтамы ж вам.
– Какие еще к черту сигареты! Это ты клуб поджег?
– Скажетэ тоже… Чого це я клубы должен жечь? Шо я, зовсим дурный? Зато тэпэр вам квартыру дадуть. Нэ можна ж так, шоб вы на вулыци жилы.
– Ты хоть понимаешь, что тебя посадят?
– Не, нэ посадять, – лицо Павлуши расплылось в улыбке. – У мэнэ це… алиби есть.
– Что еще за алиби?
– Так я ж у вас тут свидетель на свадьбе. Я ж нэ можу одною рукою буты свидетелем, а другою клуб жечь. Ой! – Павлуша внезапно сделал большие глаза и хлопнул себя огромной ладонью по губам. – А у вас там ничого ценного нэ було?
– Да ничего особенного, – усмехнулся Илья Наумович. – Зубная щетка, немного денег и моя сегодняшняя брачная ночь.
Павлуша убито покачал головой.
– Щетку я вам куплю, – сказал он.
– Обязательно, – кивнул Илья Наумович. – Павлуша, Павлуша… Даже не знаю, что мне делать – плакать, смеяться, назвать тебя идиотом, расцеловать тебя… Пойдем, Павлуша, позвоним в пожарную часть.
– Думаетэ, вже можна?
– Думаю, уже можно. – Он с нежностью глянул на Павлушу. – Счастлива земля, имеющая таких людей. Конечно, по-своему, но счастлива.
* * *
Историю с клубным пожаром удалось замять. Никому особо не хотелось расследовать это темное дело, и пожар приписали самовозгоранию от молнии и летней засухи, хотя на дворе стоял октябрь и никаких гроз не наблюдалось. Глава руководства, в очередной раз изыскав внутренние резервы, выделил Илье Наумовичу и Дуне однокомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке. Через девять месяцев у них родился мальчик, которого, вопреки слову, данному когда-то Ивану Даниловичу, супруги Альтшулеры назвали вовсе не Ваней, а Павлушей. А когда глава обиженно попенял на это Илье Наумовичу, тот ответил, что, когда у них с Дуней родится дочка и потребуется дополнительная жилплощадь, они обязательно назовут девочку не иначе как в его, Ивана Даниловича, честь.
На задворках мотострелковой части, где я служил в середине восьмидесятых, располагался солдатский клуб – двухэтажное здание из серого кирпича с однообразными рядами окон и с плоской крышей, на которую вела пожарная лестница. С крыши был виден военный гарнизон, отгороженный от прочего поселка неглубокой и не очень широкой речкой, над поселком возвышались сопки, а за сопками, в десятке-другом километров, проходила китайская граница. Весной речка разливалась, захлестывая порою единственный мост, соединяющий гарнизон с поселком, летом вскипала от идущей на нерест чавычи, а осенью гляделась печально и тихо, и над ее серой водой вспыхивали багровыми и желтыми пятнами сопки.
Небольшой поселок был удивителен по своей пестроте. Здесь жили русские, украинцы, корейцы, казахи, выходцы с Северного Кавказа, бывшие зэки соседствовали с удалившимися на пенсию тюремными надзирателями, а браконьеры с инспекторами рыбнадзора. Браконьерством, к слову, занималась почти вся мужская половина поселка и даже кое-кто из гарнизона, где проживали офицерские семьи. Воинских частей в гарнизоне было несколько, здесь же располагался и штаб дивизии, а своего рода увеселительным заведением служил Дом офицеров с кафе, бильярдной, библиотекой и актовым залом, где проходили офицерские собрания, а во все вечера, кроме понедельника, крутили кинофильмы. Солдатам редко, разве что по увольнительной, удавалось попасть в этот вертеп культуры, главное достоинство которого заключалось в том, что в здешнем буфете можно было отведать горячих пирожков и прикупить болгарские сигареты, а в зале, во время киносеанса, воспользовавшись темнотою, отрезать от шторы кусок бархата на дембельский альбом.