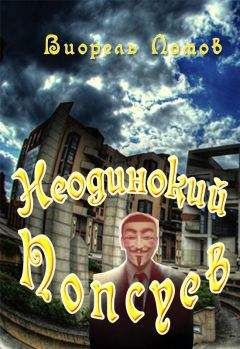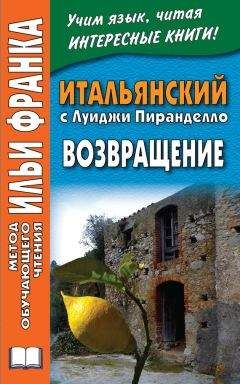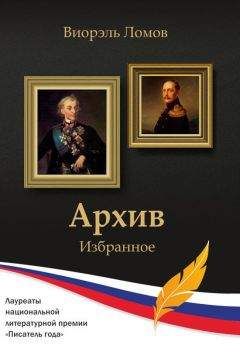– Я сам по себе.
– Смотрите, а то я уж, было, оробел. Нам тут коммунизма не надо. Да и демократии. Нам нужно одно искусство.
– С его сверхзадачей.
Баварский с нижегородским
На планерке Ненашев сообщил, что ремонт малого зала, его стараниями и талантом главного инженера театра завершен. Попсуев хотел уже спросить, с чего это взял Илья Борисович, что ремонт завершен, если к нему еще и не приступали, разве что разгребли пожарище, помыли да покрасили, но директор мягко пресек дискуссию, попросив завезти со склада кресла и шкафы.
– Видите, какой дизайн, – похвастал Илья Борисович, показывая рекламные проспекты. – Жуткие деньги ушли, будет, чем москвичам нос утереть. Шкафы для книг и подарков, а кресла!
В этот день Сергей так и не сумел спросить у Ненашева, к чему такая спешка, и как потом с мебелью доводить ремонт до ума. Но на следующий день недоумение рассеялось, когда в коридоре директор подловил его и, взяв за локоток, повел к себе. Растворив огромную фрамугу, Илья Борисович насыпал на подоконник пшено из пакетика. Голуби стали топтаться чуть ли не по его рукам.
– Я решил с ними не бороться, – пояснил он. – Коньячку?
– Благодарю вас. У меня еще поворотный механизм.
– Пустяк! Колесо обождет. Это ж не колесо истории, ха-ха-ха! – Ненашев достал коньяк. Он глядел на Попсуева маслянистыми бусинками черных глаз и, похоже, что-то соображал.
После рюмки-другой отличного коньяку Попсуеву стало тепло и всё безразлично, прошлое, настоящее, будущее. Гори оно!.. «Весь мир – театр». Шелестела жизнь за окном, ворковали и пихали друг друга на подоконнике голуби, ненасытные и злобные…
– Вот, Сергей Васильевич, смета на следующий год, соблаговолите подписать, вот тут.
Попсуев взял протянутые листы.
– Тут ваша фамилия. – Попсуев поднял глаза на директора. Илья Борисович зашмыгал взглядом.
– Фамилия? Мы тут все одна фамилия. Как в Сицилии, ха-ха! Я вас тут провел своим замом. Вот бэфель[12], ознакомьтесь. С минувшего понедельника. Распишитесь – вчерашним, вчерашним днем. А смету подписывайте сегодняшним числом.
Сергей расписался в приказе, стал изучать смету.
– А почему кресла выписываем, шкафы? Мы же завтра завозим их со склада.
– А варум? Цу велхем цвек?[13]
– То есть, как, зачем? – Попсуев обескуражено смотрел на Ненашева.
Илья Борисович налил еще коньяку. Сергей обратил внимание, что себе он наливает меньше, чем ему.
– Сереженька, дело в том… ну, за удачу… дело в том, Сергей Васильевич, что завтра мы ничего не завезем… нихтс…
– Не завтра, так послезавтра…
– Зи нихт ферштеен[14], – мягко прервал его Ненашев и доверительно сообщил: – Никогда не завезем. Зачем? Считайте, что они фербреннен, сгорели. Еще до вас. Фойер[15]! Шутка. Бёзен штрайх [Дурная шутка – нем.]. Нет их. Фьють. А вам я премию выпишу, за экономию. В этом году сэкономим, без экономии никак нельзя, а завезем в следующем.
– Хорошо, вам виднее, Илья Борисович. Да и это до меня было. А до меня – хоть потоп.
– Логика инженера, главного! Ну, нох айнмаль[16], и по домам. Вы, Сергей Васильевич, сегодня отдыхайте, завтра делайте этот круг. Ауф видер зейн[17].
– Аривидерчи, – попрощался Попсуев.
– О, Ла Скала! Гуте нахт[18], – приложил к груди пустую бутылку Ненашев.
– На солнечных скалах! певца из Ла Скала! с улыбкой оскала! я пылко ласкала! – продекламировал Попсуев и, открывая протянутой рукой двери, вышел вон, не заметив секретаршу, милую особу, про которую говорили, что «всё при ней, даже Ненашев».
– Какой человек! – глядел вслед главному инженеру директор. – Какой матерый человечище! – И, достав новую бутылку, тут же кнопочкой вызвал секретаршу, чтобы поделиться с нею своими наблюдениями.
* * *
Попсуев нашел коробку и направился в туалет собрать разбросанные обрезки труб. И тут погас свет.
– Костик? Костя, это ты? – послышался голос примы – его Попсуев уже не спутал бы ни с каким другим. – Ты куда делся?
– Это я, – ответил Сергей, в потемках налетев на открытую дверь.
– Кто вы? – воскликнула актриса. По голосу было слышно, что она раздражена и сильно не в духе. – Это вы? Почему погас свет? Где Консер?
– Кончился, – произнес Попсуев. – Крысу не встретили?
– Крысу? Какую крысу!
– Серую. Зашла сюда. Из коридора, впереди шла-шла и зашла.
И в это время зажегся свет. Прима с воплем взлетела на стол, но Попсуев успел заметить довольно безмятежное выражение ее лица.
– Где она? – вскричала Крутицкая. – Поймайте ее, уничтожьте!
– Держите, – Попсуев протянул приме коробку. – Накинете ее на крысу, как только покажется.
Актриса с ужасом отбросила коробку, будто она уже была полна крыс.
– Ни за что!
– О, мама мио, за что мне это наказание? Слазьте со стола.
– Не подталкивайте меня! Не хватайте меня за ногу! Я сама.
– Да пожалуйста, пожалуйста.
Актриса села на стол, спустила ноги. Попсуев подхватил ее на руки.
– Да вы откройте глаза, опасность миновала, – сказал он, опуская ее на пол. Прима, однако же, всё еще нуждалась в защите. Сергей поцеловал ее в губы. Она словно ждала этого. «Вот же пиявка», – подумал Попсуев.
– Сладко целуешься! Где тут выход, проводи! – скомандовала актриса.
«Вот я уже и в пажах!» – подумал Сергей.
– Как я тебе? – не удержалась прима от вопроса.
– «Как все причудницы, изящна и умна», – процитировал Попсуев Ростана. – И «я люблю, конечно, ту, кто всех прекраснее!»
В коридоре оказался главреж.
– Костя! Костик! Ты почему оставил меня в этом подземелье одну, на съедение крысам?! – воскликнула Изольда.
– Тебя съешь! Да ты, голубушка, и не одна. Погляди, какой витязь рядом с тобою! Чего ты затащила меня сюда?
– Я? Тебя? Ты же позвал меня!
– Хорошо, я, – согласился Консер. – А теперь тебя, звезду, зову наверх, к звездам. Удачи, Сергей Васильевич!
– И вам того же, ваша милость! – расшаркался Попсуев.
По режиссерской части конкуренцию Консеру составлял, пожалуй, один лишь режиссер (тоже заслуженный) Иннокентий Шмарик. Он еще был руководителем театральной студии, что уравнивало его в правах с главрежем, а порой и позволяло быть на ноздрю впереди. Сам он полагал себя лучшим постановщиком в городе. Когда он говорил о здравствующих или почивших коллегах-классиках, обязательно вспоминал и о себе. Шмарик не сомневался, что люди будут долго помнить о нем, как о выдающемся деятеле театрального искусства. Не было часа, чтобы Кеша не пожаловался на жизнь, здоровье или судьбу. А еще на завистников и бездарей, окружавших его. Те называли его по-дружески Кошмариком.
Ключевым словом его сути было слово «обида». Обида подзаряжала Кошмарика, лелеяла и вдохновляла. Он обижался на всё и на всех: на жизнь, на судьбу, на несправедливость, на соседа, на спикера областной думы, на мэтра отечественной прозы, на газетного писаку, на зам. губернатора, на рабочего сцены, на слякоть, на дефицит изданий произведений классики… Чего бы кто ни сказал или не сделал, он любым своим словом или действием глубоко обижал его. Посему он называл их всех «неблагодарными». Исключая, разумеется, одного только Константина Сергеевича. Если еще и Станиславского, то двух. С главрежем Шмарик общался мало, и только по делу. Они улыбались друг другу, иронизировали с подковыркой, но их объединяла взаимная ненависть. Оба знали, что руководящие круги устраивал такой режиссерский тандем, поддерживавший в театре творческий заряд.
Из своей обиды Кеша высасывал всё до последней капли: цветы, подарки, премии. При этом страшно зудел и раздувался, как комар. Жил этим, был счастлив и устрашал окружающих. С Кошмариком никто не хотел связываться. На нем, вопреки поговорке, никто воду не возил. Более того, возили эту воду сами, чтоб только не связываться с ним. Он же к шестидесяти годам стал местной знаменитостью и даже «харизматической» личностью, о которой с пиететом говорили даже в коридорах губернской власти, хотя в кабинетах и морщились.
* * *
На юбилее режиссера, который отмечали со столичным размахом, не говорил только немой посланник общества глухонемых. Но и здесь самые проникновенные слова о Шмарике были сказаны самим Шмариком. В своей заключительной благодарственной речи Кеша не упустил случая попенять Москве, которая обошла его в юбилейный год «Золотой маской».
– И почему? – спросил он у зала и залу же ответил: – Потому что настоящий талант – народный талант! А народный талант может оценить только народ! В Москве же народу нет.
Под горячие аплодисменты, свидетельствовавшие о том, что в Москве и впрямь нет народа, и что приблизилось время банкета, Кошмарик покинул трибуну. На банкете Кеша царил по праву, и как виновник торжества, и как тамада, и как главный говорун. Про обиды он старался не вспоминать, больше говорил о планах и прожектах.
О том, как давным-давно он мечтал поставить «Войну и мир». По юношескому замыслу в воздухе должны были летать, «слегка соприкасаясь рукавами», два главных персонажа: Купидон чистой любви и Дубина народной войны. В ближайшем же будущем Кошмарик мечтал воссоздать Париж, Бургундский отель, гасконцев и гордую красавицу, в которую влюблен герцог. При этом режиссер почему-то не сказал, что за пьесу собрался он ставить, ну да банкет уже был в той его части, когда названия не удерживаются в памяти. Да и секрета особого не было. Присутствующие, конечно же, сразу догадались, что речь шла о пьесе «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана – и это вам не хухры-мухры!