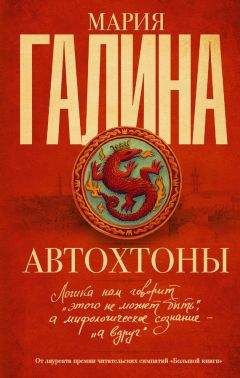– Поете вы и правда замечательно, – сказал он, повернулся и пошел прочь.
* * *
– Нина Корш? – Вейнбаум по-прежнему был в своей смешной бейсболке. Ну и уши у него! – Нет, не слышал. Хотя Корши тут жили, да. Имели доходный дом на Дворецкой. Кажется, успели уехать в тридцатых, кажется, в Вену. А что это у вас в папке?
– Старые ноты. Купил на развале.
– А ходят слухи, что вы нашли какую-то утраченную партитуру. Чуть ли не Ковача.
– Что, уже? Нет, правда, купил на развале.
– А, ну-ну, – неуверенно сказал Вейнбаум. – Беаточка, дорогая, ну нельзя же так… Вы положили молодому человеку вчерашнее печенье. Сегодня должно быть в форме полумесяца, а это в форме звездочки. В форме звездочки подавали вчера. Они каждый день выпекают разные, чтобы постоянные посетители знали, что печенье свежее. Я хожу сюда с самого основания, и ни разу… Вот, Марек подтвердит.
Марек, услышав свое имя, медленно повернул голову. Зомби, муляж, реконструкция по скелету. Или кремнийорганическая форма жизни, медлительная по сравнению с быстроживущей белковой. Фантасты такое любят. Рот Марека был щель, глаза были щели, лоб и подбородок – глыбы, заглаженные неумолимым временем.
– Даже в войну. Они выпекали на суррогатном масле, но все равно… Каждый день – разное. У них были такие формочки… Помню, как-то сижу я… а тут патруль.
– Вейнбаум, вы гоните.
– Почему вы мне не верите? – обиженно спросил Вейнбаум и мигнул. – Что я, не могу быть… ну, я не знаю, вечный жид, скажем? Агасфер? Хотя я Ему не делал ничего плохого, никогда, уверяю вас Это все антисемиты. Клевета. История меня в конце концов оправдает.
– Скажите, а вы правда служили в вермахте? И стреляли серебряными пулями?
Вейнбаум посмотрел на него ошеломленно, веки без ресниц несколько раз быстро-быстро мигнули.
– Янина, – медленно проговорил Вейнбаум. – Ну, конечно. Послушайте, как я мог служить в вермахте? Я честный иудей! Хотите, докажу?
– Поверю на слово.
– А вот он – да.
Вейнбаум показал острым подбородком в сторону неподвижного Марека. Колеблющиеся отсветы свечного язычка двигали туда-сюда тени, и оттого лицо Марека время от времени даже казалось живым.
– Служил в вермахте. И стрелял серебряными пулями. Иногда. У нас иначе нельзя. – Вейнбаум наклонился и свистящим громким шепотом сказал через стол: – Вампиры. У нас тут, как бы это сказать… их историческая родина. И серебряные пули в этом смысле… Они ведь воевали и там и там. Почему бы нет, их же просто так не убьешь! И кровищи полно, можно попользоваться. Никто не станет тебя упрекать, если ты немножко попользуешься кровью противной стороны. Их особенно много было среди медиков, конечно. И среди персонала концлагерей. Но попадались и просто вампиры, знаете…
– Вейнбаум…
– Нет-нет, постойте. У нас тут даже есть могила вампира, Валек должен был вам показать! Не показал? Не Валевской, а настоящего, как там его… Такая просаженная плита, и пролом в земле, и он из него выбирается в новолуние. В полнолуние – оборотни, в новолуние – вампиры, должен ведь быть какой-то порядок, согласитесь!
– Вейнбаум!
– Простите, – сказал Вейнбаум и потер ладошки, – увлекся.
Свечка перед Мареком потухла, но Марек так и сидел в темноте, положив руки перед собой. Беата, ловко двигая ладным телом, поменяла свечную плошку. Белой рукой она задела белую пешку, и та покатилась по столу. Марек не обратил внимания.
– Вы бываете на развале? Ну, там, где коллекционеры собираются?
– Молодой человек, я не интересуюсь антиквариатом. Я сам – антиквариат.
– И все же. Там есть один такой, в черном пальто. Я думаю, он и летом в нем ходит. С портфелем.
– А в портфеле – предметы иудейского культа? Этого знаю, – сказал Вейнбаум.
– Он кто?
– Никто. Голос. Вестник.
– Сколько ему лет?
– Сколько лет может быть вестнику? Сто, тысяча… нисколько. Вестник появляется, когда нужно передать весть. Вестник и есть – весть.
– Каббалистика какая-то.
– Разумеется, каббалистика, – согласился Вейнбаум, – а вы как думали?
– Он говорил о бойне во дворе Сакрекерок.
– Да, – согласился Вейнбаум, – бойня. В гетто их было двести тысяч. Почему они не сопротивлялись? Почему позволили сотворить с собой такое? Как вы думаете? Ведь двести тысяч – это очень много.
– Женщины, дети. Старики.
– Хорошо, делим на десять. Остается двадцать тысяч. Двадцать тысяч взрослых сильных мужчин – это тоже много.
– Они боялись за своих близких.
– Просто у них все отнимали по капельке. Ты слышал, они запрещают нашим женщинам пользоваться косметикой? Зачем моей Розочке косметика? Ты же видел, какой у нее цвет лица! Потом запрещают ходить по тротуарам, потом нацепляют желтую звезду… Потом сгоняют в гетто. Ну ничего, поживем в гетто, у нас в юденрате сам рэб Шломо, он, правда, очень сдал за последнее время, да и я что-то неважно себя чувствую… Вот тут болит. И вот тут. Если бы я покушал курочку, все бы прошло, но где теперь достанешь курочку? А Розочка беременна опять, вы знаете? Ну и потом… может, еще пронесет. Это же безумие, как оно может длиться долго? Господь все видит, он не даст в обиду. Мы же хорошие евреи.
– Про канализацию, это правда? Что будто бы в ней прятались? И до сих пор прячутся?
– Что вы! Франтик, ну, вы знаете Франтика, он водит экскурсии, в котелке таком, в бабочке… Как бы выпрыгнул из старых времен, фланеры у нас так ходили… Так вот, он говорит, что в канализации водятся тритоны. У нас такая старая канализация, вы понимаете, одна из самых старых в Европе, что в ней вывелась целая разумная раса тритонов. Почти неотличимы от людей, вы знаете? Только лысые. И голова в пятнах.
Вейнбаум для достоверности похлопал себя ладонью по макушке.
– Откуда в канализации взяться евреям? Откуда им вообще взяться. Тут только вестник. Вестник есть. А евреев нет.
– А пани Агата и правда работает на Юзефа?
– Кто вам это сказал?
– Этот… цыпленок.
– Не знаю, кто такой этот цыпленок, но зачем он обижает бедную пани Агату? Она одинокая. И немножко ненормальная. И очень любит свою собачку.
– Вейнбаум, тут хоть кто-то говорит правду?
– Конечно, – обрадовался старик, – я, например. Какую вам правду надо? Я скажу! Вы со мной к Юзефу?
– Нет. Я, пожалуй, зайду к масонам.
– А, ну да. Воробкевич. Он, кстати, заказал сто кружек, и на каждой этот самый Баволь. Такая цветная картинка, как это теперь называется?
– Принт.
– Да, принт. Мэрия оплатила по безналу. И магнитики на холодильник. Воробкевич положительно уверен, что нашел гения. И теперь намеревается распродавать его по кусочкам.
– С гениями всегда так.
– Да, – согласился Вейнбаум, – особенно с мертвыми гениями. Они совершенно не возражают, когда их распродают по кусочкам. Если вы хотите увидеть Воробкевича, вам нужно поторопиться, он как раз садится за стол. Имейте в виду, там пароль «Зерно, вино и масло». И ответ «Мел, уголь и глина». Сначала было «Кодеш ла Адонай», но не пошло. Пришлось поменять. Но вы много теряете, уверяю вас. Там паршивая кухня, а у Юзефа сегодня гусь. Только для своих, понимаете?
– Понимаю, – сказал он.
* * *
В протертом кресле подле застеленной клеенкой тумбочки сидел человек в халате и пил чай из стакана с подстаканником. На блюдечке лежал нарезанный ломтиками лимон. И тумбочка была потертая, и клеенка потертая, и сам человек был потертый, и халат его был потертый. Из-под халата виднелись пижамные штаны. Он вообще туда попал?
– Не туда попали, сударь? – тут же сказал человек.
– Кодеш ла Адонай, – сказал он машинально. – Тьфу! Хлеб, зерно и масло. Нет, зерно, вино и масло. Извините, сударь Страж.
– Извиняю, – холодно сказал привратник. – Неофиту простительно. Проследуйте вот сюда.
Он протиснулся боком в щель между тумбочкой и стеной. Пахло коммунальной квартирой. Котлетами и борщом. И курицей. Запахи они тоже нарочно? Или у них и правду такое меню?
Ресторанный зал был пуст и печален. Куда подевались все тайные масоны? Воробкевич сидел в дальнем углу и жевал, пустые защечные мешки его мелко дрожали.
– Вы разрешите, я присяду?
– Да, – Воробкевич поправил салфетку на коленях. – Да, конечно.
Подошедший официант был солидный, пузатый, немолодой, наверное, у масонов так принято. И в фартуке.
– Это вы зря, – сказал Воробкевич, когда официант кивнул и удалился. – Это место по праву славится своей плохой кухней. И, кстати, дороговато тут.
– Тогда почему вы сюда ходите?
– Привык уже, – Воробкевич вздохнул и с отвращением ткнул вилкой в котлету.
Он отметил про себя, что второе «я» Воробкевича никак себя не проявляет. То ли между Воробкевичем и его вторым «я» и правда существует пакт о прекращении войны за порогом квартиры, то ли просто второе «я» Воробкевича не любит масонство.
Принесли салат и первое. И то и другое было одной температуры – комнатной – и примерно одного вкуса.