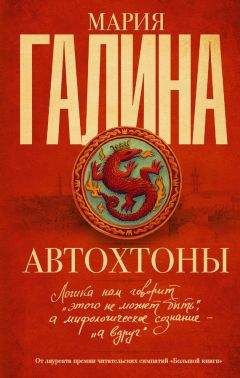– Похоже на пиктограммы…
– Ну, да… Очень сложный язык. Надо было уметь читать его… Ведь порой соседство одного-единственного цветка сообщало посланию совершенно противоположный смысл. Нынешняя молодежь…
Он оглянулся. Вероничка покачивалась, закрыв глаза. Хорошая у нее работа, вообще-то. Непыльная. Но, наверное, и платят мало. С другой стороны, если ей, скажем, негде жить…
– Еще одно растение… витекс священный.
– Одну минуту… Да, вот! Витекс священный, авраамово дерево. Сиреневые такие цветы. Как свечи. Символ чистоты. А заодно – страстная мужская любовь.
– Как это может сочетаться? Чистота и страстная мужская любовь, в смысле?
– В театре – может, – строго сказал Шпет.
– А если в соседстве с… да, страстоцветом и примулой вечерней?
– Я бы сказал, – сейчас Шпет говорил раздумчиво, словно пробуя слова на вкус, – я бы сказал… Страсть, влечение, верность и почтительность. И, безусловно… матримониальное предложение, да.
– Послание от мужчины к женщине?
– Да, безусловно. Безусловно.
– Благодарю за консультацию, – сказал он, – вы мне очень помогли.
– Всегда готов, хе-хе-хе, – ответил Шпет игривый. Старчески игривый, к тому же. Словно бы у телефона стояло сразу несколько Шпетов, по очереди передающих друг другу трубку.
Он попрощался, постоял в задумчивости, наблюдая за Вероничкой и поймав себя на том, что начинает дергаться в том же самом неслышимом ритме. Хоть бы блюдечко помыла, вон, молоко опять скисло, по ободку висят потрескавшиеся желтые лохмотья.
Смотреть на блюдечко было неприятно, он отвернулся и набрал еще один номер.
– А, это вы, – сказал Валек. – Буквально завтра. Все-таки довольно разрозненные источники. И я не смог найти его труды.
– А были труды?
– Конечно. Он был видный масон. Теософ. Ученик Блаватской.
– Как я сразу не догадался.
– Вот это как раз есть в Википедии, – обиженно сказал Валек.
* * *
Они не запирали дверь. Нечего красть? Вера в человеческую порядочность? Хитрая ловушка? Просто раздолбайство? Последнее вернее.
Две пары огромных шлепанцев трогательно касались друг друга носами, одна – со стоптанными задниками, другая – без задников вообще.
И характеры у них были разные.
Один аккуратно застегнутый рюкзак аккуратно прислонен к койке. На койке аккуратно разложена огромная черная футболка mountain с мордой волка на фасаде. Волк выглядел очень внушительно. Другой рюкзак валялся на боку, отрыгнув толстовки, свитера, две пары огромных семейных трусов, носки в непонятном количестве, пустую бутылку из-под аква-фреш, полную банку red bull, подтекающий пузырек с шампунем horse force, железную расческу, и почему-то трогательное круглое зеркальце со стразиками по ободку.
Он на всякий случай выглянул в коридор, потом вернулся к рюкзаку, пошарил на дне и в кармашках. Документы они, наверное, таскали с собой, а комок денег во внутреннем кармашке он не стал расправлять и пересчитывать. Еще обнаружилась какая-то трава, листья травы, сухие, ломкие, но точно не конопля, плотные, гладкие, с ровными краями; сморщенные черно-бурые ягоды, каждая окружена короткими острыми лепестками, словно ресницами. Вороний глаз? Он не очень-то разбирался в растениях. Вороний глаз вроде бы ядовит, нет?
Второй рюкзак он обыскивать не решился, аккуратист наверняка заметит вторжение чужака.
Он вернулся в свою комнату, где нарисованный мужчина замахивался спутником на каждого, кто осмелится войти.
Рисовавшая была бесталанна, и потому все, что выходило из-под ее руки, корчилось в лучах беспощадной и страшной правды. Големы, оживленные пропагандой, казали свои истинные лица. Глаза их были пусты, рты алчны, поля за спиной засеяны зубами дракона. Не удивительно, что ему снятся кошмары!
Надо же, Корш написала про голубую чашку, думал он, в темноте натягивая на себя одеяло. Словно бы тайное пожатие руки, как там здороваются эти масоны? Совпадение. Конечно, совпадение.
Икроножные мышцы вдруг свело судорогой, особенно левую. Он жестко помассировал ногу ладонями. Потом костяшками сжатых в кулаки пальцев. Повторил процедуру для правой ноги. И все – почти в полной темноте, лишь по потолку прополз, как светящийся слизняк, отсвет далекой фары.
Mus. Мышь. Musculum. Мышца. Мышца похожа на мышь. Мышь маленькая и дергается. То расплющивается, то сжимается в комок. Он вспомнил мышку, дергавшуюся за щекой уборщицы. Странная женщина. И явно ненавидит Янину. Казалось, там, в молчаливых коридорах, среди теней, она так и продолжает шаркать шваброй по паркету, страшная, скособоченная, дергая щекой… Если она и впрямь внучка или правнучка Нины Корш, ее, надо полагать, учили ненависти точно так же, как в семье Валевских девочек обучали лжи.
Он с силой потер лицо, и тут же в плотном воздухе засветились фосфорические глаза, пурпурные радужки с черной пульсирующей дырой зрачка. Который час? Он нащупал в кармане куртки, висящей рядом на стуле, мобилу, но экран был мертв; он забыл подключить зарядник. Зараза, предупреждать надо. Обычно телефон при последнем издыхании так жалобно попискивал… Ноги по-прежнему ныли, и еще он был совершенно мокрый. Мокрый, как мышь… Мышь. Мышца. Ну да.
Из-за двери доносился телефонный звонок, назойливо, безнадежно. Звонил тот, кто не смог дозвониться на мобилу? В темноте, ощупью, он натянул джинсы. Почему Вероничка не берет трубу? Спит? Звонок затих как раз, когда он вбежал, шлепая босыми ногами, в прихожую. Поднял трубку, но там не было даже гудка, так, шорохи, статические разряды, тишина… Он осторожно положил трубку на базу.
Вероничка… Вероничка сидела, подергивая головой и кистями рук, меж веками тускло блестела полоска белка, не человек, манекен, кукла, тронь ее, и она завалится на бок и будет все так же подергиваться в одном ей слышимом ритме. Под кожей щеки у нее тоже что-то подергивалось, все сильнее, словно пыталась выбраться наружу мышь.
Он попятился, не отводя глаз.
И уткнулся спиной во что-то мягкое. В кого-то мягкого. Откуда, никого ведь не было. И этот мягкий сделал что-то такое, отчего он не сумел обернуться и посмотреть, кто же там стоит, кто прижимается так нежно, так осторожно проводит по шее, по загривку очень холодными пальцами. Прикосновение было бесстыдно, беззастенчиво эротическим, и плоть отозвалась, и пах пронзила сладкая судорога. И тогда, корчась от отвращения и стыда, он попытался отшвырнуть чужую тяжелую нежную руку, и опять судорога скрутила икры, и он проснулся – у себя на койке, весь мокрый… Он сидел, хватая ртом воздух, массируя мышцы ног, мимоходом отмечая, как зудит и саднит шея под волосами. Царапина там, что ли…
* * *
Почему марш Жрецов? Он что, уснул в театре?
Морщась от серого утреннего света, он выпутался из одеяла, торопливо вскочил, охлопал одежду. Мобила показывала полный заряд без одного деления. И время. Девять двадцать. Рановато, но в провинции рано ложатся и рано встают. Туристы не в счет, те вообще не спят.
– Да, – сказал он и откашлялся, прочищая пересохшее горло. – Да!
Поганый сон маячил на задворках сознания, как темное пятно на краю поля зрения.
– Ну как вам? – Воробкевич часто дышал в трубку.
– Еще не читал. Но Шпет очень хвалил.
– Хотя бы купили? У нас ее, знаете, расхватывают.
Он представил себе толпу у киоска, возбужденных людей, вырывающих друг у друга из рук газету. Как? Вы еще не читали? О, Воробкевич! Это же сенсация! Кто бы мог подумать, такое открытие! Дайте-ка сюда… Да, и правда. Нет-нет, постойте, я еще не дочитал!
– Сейчас спущусь и куплю, – пообещал он.
– И перезвоните мне! Обязательно!
Воробкевичу хотелось поговорить о своей заметке. Еще и еще раз обсудить нюансы. Обычный литературный зуд.
– Конечно, перезвоню, – сказал он и стал искать носки. Носки нашлись, но почему-то мокрые, словно он ночью долго топтался в луже. Наверное, я ночью спросонок пошел в сортир, а там подтекало. Но почему в одних носках? Почему вообще я ночью надевал носки?
Он отбросил мокрый комок в угол комнаты и начал рыться в дорожной сумке в поисках чистой пары.
* * *
Газетный киоск на углу был увит завитками лоз, и киоскерша была в завитушках и лозах… ладно, только в завитушках. Из-за обшлага рукава ее жакетика-букле виднелся уголок батистового носового платочка. Ему почему-то стало грустно, словно платочек был белым флагом, поднятым в безнадежной попытке остановить наступление неумолимых фаланг Хроноса.
– Вечерка? У нас ее быстро раскупают, но я отложила. Специально для вас.
Он ее первый раз в жизни видел.
Газета пахла типографской краской и чуть пачкала пальцы. Приятный запах. Он было развернул ее у киоска, и тут же на рыхлую бумагу упала тяжелая капля. Ну да, конечно.
«Криница» была тут же, за углом, газета даже не успела намокнуть.
Она дочитала вчерашний роман и взялась за следующий, на обложке полуголый и очень мускулистый брюнет обнимал затянутую в корсет шатенку. На заднем плане просматривались пальмы и паруса.