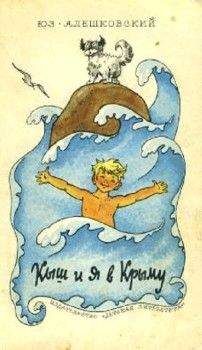Особенно звонко пело железо зимой, в мороз. Медведь не погружался в спячку, но и не раздражался от бессонницы, как свирепый лесной шатун. Напротив, он был благодушнее, чем обычно: морозный городской воздух казался свежее, чище, да и люди появлялись у границ его владений не часто.
Однажды он без устали до сумерек так наслаждался музыкальными переливами, что заметил приблизившегося человека, только когда раздался сиплый, мало похожий на человеческий, кашель. И тут же учуялся запах, нечеловеческий запах вольной жизни. Однако воплощение свободы стояло на двух ногах, и какие-то отдельные черты все же выдавали в нем человека.
Медведь остановился, пристально вглядываясь.
– Замерз я, Миша. Худо мне. Заболел совсем. Конец, наверное, скоро. Никому не нужен. Совсем никому. Один. И ты, Миша, один. Скучаешь. Но от тебя-то прок есть. Тебя за деньги показывают. А мне и милостыню не дают просить, гонят. Отовсюду гонят. Из жизни. Да я уже и сам ничего не хочу, только уснуть в тепле.
Возьми меня к себе, Миша, обними, дай согреться. В последний раз…
Человек, пахнущий прощальной тоской, прильнул к решетке, внезапно поверив в возможность исполнения единственного заветного желания.
Медведь теплым дыханием согревал его лицо, слизывал слезы. Это все, что он мог сделать для человеческой сироты.
В начале сентября в класс пришла новенькая. Не первого, как все, потому что несколько дней болела простудой. Она только что вернулась из Южной Америки и не переносила пока московского климата. В далекой невероятной стране ее папа работал военным атташе. Никто не знал, что это значит – военный атташе. Но звучало еще красивей, чем летчик-космонавт или олимпийский чемпион. Название страны тоже будоражило воображение в те времена, когда даже Польша казалась экзотической землей, полной недоступных невиданных чудес.
Дети уже неделю отучились и успели привыкнуть к тому, что они теперь все вместе называются 6 «Б» класс, а не 5-й, как прежде. Они успели забыть легкое первосентябрьское удивление переменам, произошедшим с каждым из них за лето: кто-то здорово загорел, кто-то вырос в почти взрослый рост, а кто-то так и остался маленьким и бледно-хилым, как в конце мая, перед расставанием, и это тоже поначалу удивляло, как некий непорядок, – вырастать за лето положено было всем.
Сейчас, когда на уроке русского написано было сочинение «Как я провел лето» и даже выставлены за него оценки, лето полностью ушло в давнопрошедшее, которое и не вспомнится никем из них, когда взрослыми станут, – так, светило солнце, зеленела трава, кусали комары, не было школы. Как каждое каникулярное лето – дано ли их отличить?
И тогда появилась эта новенькая, Орланова. Сначала, правда, каждый день приходила ее мать: брала домашние задания, чтобы ребенок не отстал от остальных. Мать ничем от других матерей не отличалась, была только чуть любопытнее других, хотела про всех все узнать, но это вполне понятно – другие мамаши, сплотившиеся за пять лет школьной жизни детей, давно удовлетворили свое любопытство относительно окружения, в котором оказалось лелеемое ими чадо.
Орланова появилась как раз в тот день, когда их новая классручка заполняла последнюю страницу журнала: домашний адрес, телефон, место работы родителей. Вообще-то полагалось выписывать все сведения из личных дел и не тратить драгоценное время урока на вопросы не по теме, но какая же и без того замотанная всякой писаниной и мелкой суетой учительница будет следовать этому правилу?
Александра Михайловна простодушно дала классу задание по учебнику и принялась в алфавитном порядке поднимать детей:
– Так, Асланов Александр. Адрес?… Так, хорошо. Телефон?… Национальность?…
Шурик Асланов, их тихий маленький отличник, знавший ответы на все вопросы и безотказно дававший списывать всему классу, молчал. Он даже немножко покраснел. Для некоторых, кто понимал, в этом вопросе речь шла о стыдном. Однако беспроблемное большинство ничего такого не чувствовало.
– Ну же, Асланов, национальность! Армянин? А чего так тихо-то? У нас все национальности равны!
Класс захихикал. Шурик поник своей негордой умной головой.
А правда, чего он тогда переживал? Все еще было идиллически спокойно. До ввода войск в Афганистан оставалось целых два года, омерзительно-абсурдное словосочетание «лицо кавказской национальности» не могло возникнуть иначе, чем в шизофреническом бреду.
…Больше Шурику спотыкаться было не на чем, он спокойно назвал место работы отца: Московский государственный университет имени Ломоносова, заведующий кафедрой. А про мать сказал: домохозяйка.
– Еще бы, при таком-то папочке, – вздохнула о своем Александра Михайловна и подняла следующего по списку.
В принципе, ничего интересного не происходило: каждый год одно и то же – все знали, кто будет молчать на вопросы об отце, кто будет стесняться работы родителей. Все еще со времен детского сада привыкли к бестактности и наглой бесцеремонности, с которой позволялось лезть в их личные дела взрослым, потому что так надо.
Орлановой стесняться было нечего. Она, уверенно откинув с плеча толстую блестящую косу, отрапортовала про загранкомандировку родителей, про папу – военного атташе и маму – посольского врача.
– Сейчас папа работает в МИДе…
– У меня тоже отец военный, полковник, – отрекомендовалась сидевшая через ряд Ткачук, жадно желающая завладеть вниманием новенькой.
Та спокойно кивнула, приняла к сведению. Как-то само собой получалось, что теперь она будет главной в классе, она будет выбирать себе подруг, а не ждать, как положено новеньким, когда позовут в компанию.
Наконец очередь дошла и до Ткачук, потом до Торопова.
Люда Угорская напряглась, ожидая вызова.
Но Александра Михайловна выкликнула Федорова, Яковенко. И все. Список кончился. Ее так и не подняли. А тут и звонок прозвенел.
– Вы у меня ничего не спросили, – подошла девочка к учительскому столу.
– Ты – Угорская? Мне пока не надо. Ты так сиди, – прозвучал невнятный ответ.
Все уже толпились на выходе, торопясь попасть в сумятицу перемены.
Именно в эту шумную и бестолковую минуту не было, наверное, на всем свете существа, несчастнее Угорской. Подходя к заполненному чужими именами журналу, она еще на что-то надеялась.
Теперь – нет. Теперь – все.
– Мы, кажется, в одном доме живем? – подошла к ней зоркая новенькая. – Мне мама моя сказала.
– Может быть. Я не знаю.
Оказалось, действительно в одном. С ними увязалась Ткачучка, хотя ей было совсем не по пути.
Со стороны могло показаться, что светлым, тепло-зеленым днем возвращаются, оживленно беседуя, три закадычные подружки, беззаботные московские птахи в одинаковых черно-коричневых формах с красными галстуками. Алые пионерские символы имитировали жизнерадостность и даже подобие улыбки, как губная помада, густо нанесенная вслепую женщиной без возраста, рождает на ее лице подобие фальшивой клоунской бодрости: страшновато, но правила игры соблюдены.
Новенькая спрашивала обо всем: о характерах учителей, о том, кто в кого влюблен и кто что читает. Она оказалась прилично начитанной, вот только сейчас, болея, закончила «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова, и Угорская, чуть отвлекшись от своего ужаса, заговорила о пушкинском «Путешествии в Арзрум», как Пушкину встретилась повозка и как он спросил погонщиков: «Кого везете?» и те ответили: «Грибоеда». Страшная встреча.
– Это ему был знак, – вздохнула Орланова. – Знак собственной судьбы.
– Я в такое не верю, – убедительно изрекла Ткачук, – встретились случайно, ну и что?
– Их даже звали одинаково: оба Александры Сергеевичи, – задумчиво произнесла Угорская.
– Ну, мало ли…
Они были уже у дома.
Угорская сразу пошла к своему подъезду.
Эта новенькая была вполне нормальная. С ней могла получиться дружба. Они ходили бы друг к другу, книгами бы обменивались. Но не в этой жизни. В той, прежней. К себе она сейчас никого не позовет, чего уж. Дома мама вся на взводе, то вещи какие-то лихорадочно перебирает, то плачет над старыми бумажками – письмами, что ли, рвет их, то пишет что-то стремительно. И во всех ее действиях как бы нет определенной линии, цели. А это для детской души страшнее всего – видеть, что взрослый, на котором сходится вся твоя жизнь, оказывается слабее тебя и даже больше тебя нуждается в защите. Такое ни для одного ребенка не проходит без последствий. Только кто об этом думает, когда собственная жизнь становится непрерывным кошмаром?
– Ты голодная? – спрашивает мама дребезжащим больным голосом. И не дожидаясь ответа: – Возьми что-нибудь сама.
А что взять-то? Варить макароны? Гречку? Ненавистный суп из пакетика с тюремным запахом? Она находила какие-то прошлогодние запасы смородинового варенья, пила чай, садилась за уроки.
Кому нужны эти уроки? Кто ее будет спрашивать?