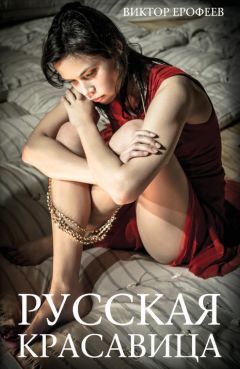Знали бы они, пять белых, одна – шоколадная, как худо мне нынче! Ой, худо!.. Но теперь они мне не помогут, ничто не поможет. Нет, вот я покрещусь в ближайшие дни – тогда посмотрим! Тогда на моей стороне встанет светлое воинство божеских сил, и если кто посмеет ко мне прикоснуться – пусть попробует! Рука отсохнет у обидчика, ноги разобьет паралич, печень покроется раковой опухолью… Не горюй, Ира, говорю я себе, ты живуча, как сорок тысяч кошек! Ты живуча, как сорок тысяч кошек… Может быть, ты в самом деле новая Жанна д’Арк?
Пила исключительно только шампанское, пила вообще мало, не возводя в хлеб насущный, отстраняясь от простонародной привычки, нечасто и мало пила, и только шампанское, ничего, кроме сухого шампанского, и перед тем, как выпить, крутила в высоком бокале проволочку, что сдерживает выхлоп пробки. Тогда бокал пенится и шипит, колючие, невозможные для горла пузыри летят вверх, но всему остальному шампанскому предпочитала брют. Ах, брют! Ты брутален, ты гангстер, ты – Блок-гамаюн! Ты божествен, брют…
Когда шампанского не было, сдаваясь на уговоры, пила коньяк, что наливали, то и пила, вплоть до болгарских помоев, но дело не в этом: я хотела понимания, а меня спаивали умышленно и целенаправленно, и я делала вид, будто не догадываюсь, и начинала капризничать и все презирать. Не хочу мартеля! Не надо мне вашего курвуазье!.. – Я люблю куантро! – говорила с победоносной улыбочкой, желая всем насолить, а они отвечали: – Так это же не коньяк! – Почему не коньяк? Разве коньяк не может быть апельсиновым? – Все хохочут. Знаток посрамлен. А не держи меня за дуру! Ладно, Гриша, скажут ему, кончай выступать. Неси куантро! А у Гриши нет куантро, и несолидно получалось. – А однажды я была в компании, где был, представьте, один барон, настоящий барон, седоватый, нет, правда, Ксюш? – Ксюша ласково смотрит на меня, как на расшалившегося ребенка. – Владелец вот этого коньяка. – И что он пил, барон? – спросит какой-нибудь вшивый профессор из Университета Лумумбы. – Свой коньяк? – Нет, – говорит ему, подмигивая, уязвленный мною хозяин, который уже ненавидит меня за куантро, этот – как его? – Гриша, к которому мы с Ксюшей приехали, сделав, можно сказать, одолжение. Нет, иронизирует Гриша, это все равно, что пить собственную мочу! – Ах, как остроумно, говорю холодно. Совсем не смешно. – И я с ужасом чувствую, что меня здесь не понимают, что я чужая на празднике жизни, что нужно выпить, скорее выпить, чтобы не разрыдаться, нужно выучить какой-нибудь язык, потому что барон не говорит по-русски, хотя бы двадцать слов в день, но я такая ленивая, такая ленивая, что своей ленью могу заразить целый остров вроде Исландии, и настанет в Исландии опустошение… Крах!! А мне-то что? Я оглянулась, чтобы найти Ксюшу, но вместо Ксюши лежали на полу туфельки, потому что Ксюшу уволокли на кухню, прельстившись ее фантастическим блеском, а она только что приехала на розовой машине, вся нарядная, приехала и сказала: – Не могу в России. Не могу без России… Что делать мне, солнышко?
Она всегда звала меня солнышком, вкладывая в это слово столько нежности! Увели ее босую на кухню. Я пошла за ней, вижу: вокруг нее крутятся два режиссерчика с Мосфильма, а она сидит и безучастно пьет быстрорастворимый кофе. Я говорю, Ксюша, идем отсюда! Здесь нас не понимают, а только спаивают. Идем, солнышко, говорит она мне, встать помоги! Мужики в замшевых куртянчиках нас за руки удерживают, танцевать приглашают.
А я говорю: подо что танцевать? под это старье? Ну, спасибо, говорю, с вами неинтересно! Насилу отпустили, а Гриша качается в проеме двери и смотрит злобно, как мы в лифт водружаемся. Может быть, девочки, передумаете?
У меня дыня есть. А Ксюша говорит: давай сюда дыню. Мы тебе ее завтра назад привезем. Гриша даже обуглился от обиды, а мы на кнопку нажали и вниз. – Не наши люди, – говорю, – не наш калибр. – А она отвечает: как мы здесь очутились?
Сели в розовую машину и думаем, что дальше? Ксюша предлагает ехать к Антончику. Что за Антончик? Не выйдет ли, говорю, накладки? Я никогда не поспевала знакомиться со всеми ее знакомыми, на ней друзья гроздьями висели. Ну, как ты, спрашиваю, во Франции? Хуево, отвечает. Ксюша вышла за зубного врача, смеясь, что зубы болеть не будут. Этот Рене приезжал в Москву на ученый конгресс, а она его снимала для телевидения, он умел складывать ручки, как мадонна, – ах, солнышко, рассказывала она мне, у него расстегнулась пуговка на рубашке, и я увидела его опушенный пупок… Участь моя была решена. Она думала, что во Франции тоже будет работать на телевидении, потому что с детства знала французский и играла на пианино, как в прошлом веке, однако француз не позволил и поселил ее под Парижем, на станции Фонтенбло, где похоронен Наполеон, но я не об этом: Ксюша жила в просторном доме с большим грушевым садом и писала мне истошные письма. Нежное мое солнышко, писала она, мой муж Рене при ближайшем рассмотрении оказался полный мудак. Целыми днями сверлит зубы, размеряет время до каждой секунды, деньги закалывает булавочкой. По вечерам с важным видом прочитывает газету Ле Монд и рассуждает в постели об особом пути социализма с французским лицом. Его прикосновения и стерильные запахи напоминают все тот же зубоврачебный кабинет, хотя его член не похож на бормашину и вообще ни на что путное. Я объелась грушами, у меня хронический понос. От здешних русских, с которыми познакомилась, тоже понос. Они ушиблены пыльным мешком и все время оплакивают отчизну. Возражать им бессмысленно: они подозрительны и косолапы. Гарвардскую речь С. читала? – жуткое позорище. Я краснела за этого рязанского долбоеба и с большой радостью узнала о старинном партийном кличе: за вчерашнее – спасибо, за сегодняшнее – отвечай! а они решили, что я вообще красная. У меня развился локальный комплекс Эммы Бовари, я завела себе молоденького водителя грузовика, но он тоже зануда… В другом письме она все-таки признавала, что Франция довольно прекрасная страна, что она принялась со скуки путешествовать, что за прелесть – Нормандия, только, к сожалению, повсюду изгороди, частная собственность, и французы, несносная публика! Особенно меня убивает парижский снобизм, – писала она. – Слова не вымолвят в простоте, все подсюсюкивают, мысли не имеют никакого приложения к жизни, сплошная риторика и нафталин! Были мы с мужем у одного академика. Академик подал Рене два пальца – представляешь? – вместо рукопожатия. Рене даже не возмутился! Сидел на кончике кресла со сладчайшей рожей… Где этот растленный Запад? – писала Ксюша. – Не вижу в упор! Все они удручающе положительные, а когда грешат, то с таким чувством меры, с такой обстоятельностью, с какой лавочник из колбасной лавки режет ломтики ветчины. Или как пьют водку – мелкими глоточками и не больше двух рюмок, а потом, от сознания исполненного греха, ходят довольные и еще больше, чем раньше, положительные… – Я не верила ее письмам, думала, что разыгрывает… – Единственная отрада моя – онанизм, – писала она. – Мои мысли – о тебе, солнышко!.. – Я решила, что у Ксюши свои какие-то цели, что ей нужно так писать, и продолжала любить Европу. Ах, какой был, например, этот седоватый барон, которого я видела в ресторане «Космос»! А Гриша решил, что я вру.
Я смерила Гришу уничтожающим взглядом, который не выдерживают мужчины, не почувствовав собственного ничтожества. Эх ты, Гриша! И откуда он только взялся со своей глупой дыней? Ксюша, сказала я, ну, скажи ты на милость, куда мы поедем, ты же, Ксюша, совсем надралась!.. Плевать, сказала Ксюша, в конце концов я – француженка. Что они со мной сделают? – Она долго тыкала ключом в зажигание и долго не попадала. Машина взревела так, будто сейчас взорвется. Валил снег, и было темно. Ксюша, сказала я, поехали на такси! – Сиди тихо и слушай музыку, сказала Ксюша и включила музыку. Одна певица из Бразилии, фамилии не помню, запела громко, но таким теплым голосом, словно запела только для нас с Ксюшей. Я вспомнила Карлоса. Мы обнялись, прильнувши друг к другу. Она – в модной волчьей шубе, разрушающей представление о жмотстве врача, которого до свадьбы я даже не знала, потому что Ксюша, несмотря на нашу любовь, всегда вела свою отдельную жизнь и никого в нее не допускала, а я обижалась и старалась быть как она. А я – в своей старенькой рыжей лисе, что подарил мне Карлос, племянник президента, только его уже не было в Москве и, может быть, в живых, потому что президента свергли и к власти пришла хунта совершенно отпетых людей. Они отозвали Карлоса из Москвы, и он канул, не откликнувшись ни единым письмом.
Не знаю, был ли Карлос хорошим послом, но то, что он был потрясающим любовником, я знаю точно! Он превратил свое посольство в самое веселое место в Москве. Он был очень прогрессивный, и ему скрепя сердце не запретили. Он был такой прогрессивный, что на приемы ездил в жигулях-фургоне, прицепив свой пестрый, как пижама, флажок, и без шофера, но я-то знала, что в гараже у него стоит, поблескивая черными боками, мерседес, и по ночам мы ездили на нем, когда мне хотелось прокатиться. Он переоборудовал подвальный этаж в танцевальный зал. Он накупал бесчисленное количество жратвы, выпивки и сигарет в валютке на Грузинской и закатывал бешеные пиры. Туда ходила вся интеллектуальная Москва. Там Белла Ахмадулина признавалась мне, что вы, дитя, несказанно собой хороши. Карлос прекрасно танцевал, но я танцевала еще лучше, и он это быстро заметил и оценил по достоинству. Я осталась у него, когда под утро разошлись последние гости, и милиционер отдавал им поочередно честь. Я – посол, – внушал Карлос стерегущему особняк милиционеру, держа в руке стакан и бутылку «Московской» водки, – и если ты откажешься, я обижусь. – Милиционер из боязни обидеть посла дружеской страны пил, не моргая. Я осталась у него, и он, оказалось, умел любить еще лучше, чем танцевать. Мы сошлись на любви к классической музыке, и нам постелью в ту ночь стал его безразмерный письменный стол со стопочкой книг и бумаг на дальнем краю, хранивших мимолетные тайны банановой республики, но он не был жгучим брюнетом с черной полоской усов, сулящей брутальность и ложную пылкость клятв. Его южная наружность была смягчена и обуздана оксфордским шиком, в котором он жил много лет, когда учился. Я имела дело не с каким-нибудь знойным выскочкой. Он покорил меня аристократической тишиной, и я не верила Ксюше.