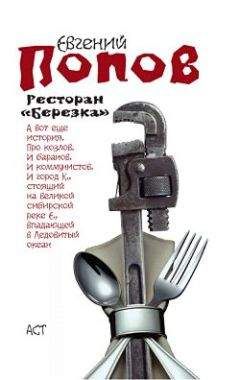А может…
А может, то пели все молодые мужики, покинувшие в горевую годину дома, в Карпатах, невест, молодых жён, и отправившиеся в чужую землю за своей долей? Не нашли своей доли и молодыми полегли в эти каменные мешки?
Повiй, вiтре, де схiд сонця,
Де схiд сонця, край вiконця,
Край вiконця постiль бiла,
Постiль бiла, дiвча мила.
Повiй, вiтре, тишком-нишком
Над рум’яным бiлим личком,
Над тим личком нахилися,
Чи спить мила, подивися.
Чи спить вона, чи збудилась,
Спитай iї, з ким любилась,
З ким любилась и кохалась,
И любити присягалась.
Як заб’еться iй серденько,
Як зiтхне вона тяженько,
Як заплачуть карi очi –
Вертай, вiтре, опiвночi.
А якщо мене забула
И другого пригорнула,
То розвiйся по долинi,
Не вертайся з України.
Вiтер вiе, вiтер вiе,
Серце вяне, серце млiе.
Вiтер вiе, не вертае,
Серце з жалю замирае.
Петро достал из гамака карточку.
На карточке мамко была ещё молодая, и Иван с Петром ещё хлопчики. Это их первая карточка. С осени сорок четвёртого. Верховина тогда только что надела шапку Советов, и у бездольных Голованей просеклись первые рубляши. Из тех первых рублевиков они и отложили на этот снимок…
В тесной печали глянул Петро на карточку, в тёмное зеркало будто посмотрелся, и бережно поставил её в передний могильный угол.
В чёрном деле честь не спрашивай.
Притискивая к груди свёрток, старик неслышно выскользнул из дома и тут же попятился, вжался в тень за угол. Навстречу катил одноглазый «Мустанг». У Марииной машины со светом бегала лишь одна сторона.
Мария с Петром не заметили старика, это было ему в руку. Настёгивая из последнего, торопился он чёрными улочками к Джимми. В другой раз не сел бы с ним рядом в одном чистом поле, а тут статья особая.
– Дедулио-о! – пропел Джи, притворно раскинув руки. – Каким ветром?
– Русинским! Русинским!.. – отпыхиваясь от скорых шагов, повторял старик с каким-то торжеством, с каким-то ясным, с видимым вызовом и в голосе, и в самой манере держаться. Так ведут себя люди, раз и навсегда решившиеся на что-то такое, на что прежде у них целую вечность не хватало духу.
Джи скрестил руки на груди, в нетерпеливой выжидательности уставился на старика, понимая, что тот спроста к ночи не прикатит.
– Я скромно подозреваю, – вязко залоснился лицом Джи, – что я тебе крупно нужен. Крупное дело? Не так ли?
– Джимка! Пёс ты муругий! Как же без крупной надобности?
Старик забирал широко, для прочного разгона подступался к затее с дальних подходов.
– Дедулио! Голубчик! – Джи облапил старика и даже, кажется, без фальши чмокнул в дряблую, вислую щёку. – Ещё минуту назад я молил Бога послать мне… Боженька не фраер, он всё слышит! Дошла до его уха моя молитва. Снарядил тебя передать мне тысчонку?
Пухнул Джи с радости.
Победно выставил руку с предельно разжатыми пальцами.
– Не тяни, дедулио! Спеши облегчить свои карманы, а заодно и участь мою.
Размыто улыбаясь, не зная, серьёзно ли, в шутку ли отнестись к словам Джимки, старик, слабо высвобождаясь из сатанинских объятий, выдавил с чужеватинкой:
– А ты сукин сын…
– Ему щенка, да чтоб не сукин сын! – захохотал Джимка. – Тыщу на кон!
– А с чего ты взял, что я тебе купилки принёс?
– Ну не пришёл же ты пожелать мне спокойной ночи!
– Откуда ты, идоляка, взял, что я тысяченачальник? И почему именно тысячку?
– Тыщу и сорок центов, – уточнил Джимка.
– А это что ещё за набавка?
– В сорок центов я ценю твоё дело и в тысячу джорджиков – своё умение, как провернуть его интеллиго. Без помарок.
– Тыщу! – отшатнулся старик. До него только сейчас стало доходить: целую тыщу ломит Джимка! – Откуда? Вымогателец! Откуда? Откуда мне взять столько? Сцелело с гостеванья у меня капиталишку, как от пожару травы…
– Вот видишь! – в голосе у Джи дрогнули просительные нотки. – На слове ловлю. Что-то у тебя да осталось. У меня ж кругом ноль! А мне, – подолбил ногтем часы у себя на запястье, – а мне через час к шефу. Какой чёрт даёт шефам жён?! Иди волоки тысячный презент!.. Пунктуальная стервь… За месяц наперёд припёрлась к маман в лавку, облюбовала серьги, похвалила, что значит: это мне по вкусу, пускай несёт на день рождения. Да по карману ли мне серьги те проклятые? А ей это до зонтика. Большое дело сделала, похвалила! Теперь вот она ждёт… Из года в год, из года в год… Вот идти. Что нести? Одно перепуганное плевало?[72] Навар невелик. Зато убыток явный. Завтра же шеф замочит и высушит на солнышке. Ну выжмет же с работёхи! Выручай, голубчик! Уж дай тыщу…
Обмяк старик.
– Набралась бы только… Отдам дотла… С матерью не обкашливал это дельце?
– А, – упало вздохнул Джи. – С матуней номер дохлый… А сам я гол, как полицейская дубинка. Ка-ак умасливал мамуню… Дай, говорю, серьги под проценты, в барыш въедешь. Не-ет, отвечает, раздолбаев ищи за Полярным кружочком. А мне гони наличными. Сама куда-то умоталась, серьги кинула мне на условии: если серьги исчезнут, а взамен не прибудут проклятые барсики хоть с тыщу, стукнет хвостом она полиции на меня… Совсем у паханки чердак потёк. Выведи, деду, из беды! Не то пропаду, совсем пропаду… как Гэс… как Гэс…
Был Джи из того сорта людей, которые, подворачивая возможное в уже свершившееся, принимали всё единственно как свершившееся, и оттого Джи так жалобно забирал, что у самого блеснули слёзы.
– От ты грех… От ты какой грех… – растерянно запричитал старик. – Совсема умаяли, совсема решили малого… Я ж что… Я…
Выгреб старик из потайного кармана на стол всё, что у него жило в наличности и, вовсе забыв, зачем сюда пришёл, принялся считать.
Набежала тысяча с мелочью.
Тысячную горку мятых долларов пододвинул Джи, а всё остальное, что было поверх тысячи, снова спрятал в потайной карман. Застегнул карман на пуговку.
– Нешь я супостатий какой… Ежли могу… Не подмогти как? Бери, Джимка, да помни деда…
Не ожидал Джи, что вот так глупо вывалится эта тысячная удача.
Он даже опешил. Хотел было уже вякнуть что-то такое вроде да зачем, да не надо, но удержал себя, прикусил язык и вымолчал счастье.
Горестное, просительное стало спадать с его лица; сквозь минутную беду пробилось привычное: наглое, хваткое, язвительно-насмешливое.
– Ты, дедудио, – смешинки катались в его голосе, – очень уж не убивайся. Я не спаная девка[73]. Может, я тебе что и верну. С полицейскими всякое бывает.
– Я не под возврат даю… Я так… Жалеючи…
– Верну, обязательно верну-у, – ядовито наворачивал Джи. – Верну, – стишил голос до шёпота, так что недовольный, но ещё крепкий на ухо старик не мог уже слышать, – верну, когда леший ослепнет. Дедулио, серёжики-то наши! Йахоу-у!
Чужая напасть так придавила, что старик не замечал насмешки ни в голосе, ни в лице парня, решительно ничего предосудительного не видел в его поведении, а только окаменело стоял, выжидательно уставясь на Джимку.
«Что думает это вторсырье? Может, подсчитывает, сколько тонн песка уже рассыпало? А может, подсчитывает, сколько пенсии за него получено на том свете?.. Интересно, не из той ли небесной пенсии эти… – Джимка ястребино скосил липкие глаза на деньги. – Не сгрёб бы он эту валюту назад. Ну везетень!»
С обременительной, уступчивой улыбкой – ох уж «дипломатия улыбок»! – Джимка, притворно зевая, подровнял стопку, лениво прибрал в пистолетную кобуру.
Увидав усмешеньку на молодом лице, старик услужливо, как-то опасливо просиял.
– Вот и хорошо, до смерточки хорошо, что всё слилось в лад, – почему-то смято миротворил старик, нетвёрдо правясь к двери.
– Не шевели слишком коньками, дедулик… Не спеши… Тише едешь – дальше будешь…
– … от того места, куда едешь! – горячечно отстегнул старик.
– Ну я отрубился! – застонал в сухом, смазанном смехе Джимка. – Да прежде чем двигать поршнями, хоть ради хохмы скажи, зачем приходил-то? Ну? Чего молчишь? Чего жмуришься, как майский сифилис?
– А! Да!.. Я ж…
Старик покаянно проплюхал назад от двери к столу. Угрюмо вслушиваясь, долго смотрел на дверь, на окна чёрные. Всё молчало.
Дед сломился в поясе, чуже нагнулся к Джимке – сидел за столом и очумело пялился на стареника, – запальчиво вдохнул в самое ухо:
– Я ж… каторжанец… надумал бечь…
Джимка саркастически хмыкнул.
– Что за мираж-фиксаж на тебя наехал? Вижу, не все у тебя дома. Ушли к соседу на чай? К ним тебе надо?
– Ей-бо! – припиная ладони к груди, одними губами прошамкал старик. – На Родину…