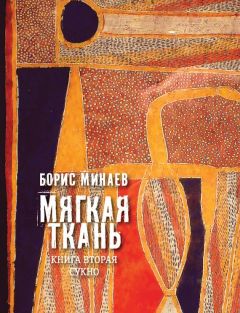В этот момент появились два не наших красноармейца, один из них в самых коротких и точных выражениях вдруг потребовал денег, на это Миля потряс своим мандатом, а потом, когда понял, что на него наставлен короткий ствол, стал объяснять, что денег у него нет, и тогда второй вдруг резко и коротко ударил его прикладом в лицо, Миля отлетел и стукнулся головой об стену, показалось, что он потерял сознание, Даня врезался всем телом и сбил первого с ног, второй начал лупить Даню ногами по ребрам, боль захлестнула, и в глазах стало темно, но не совсем, и в этот момент раздалось два коротких выстрела, товарищ Семенов стрелял в воздух, и не наши красноармейцы каким-то образом быстро сумели скрыться, стрелять им в спину товарищ Семенов отчего-то не захотел, потом они долго приводили в чувство Милю, потом Семенов стал их отчитывать, что вы здесь делали, почему здесь, что за подпольная сходка, вы руководители целого творческого коллектива, вы знаете, что у вас там происходит, у вас там бардак происходит, а если бы эти типы вас убили, а они бы убили, если б не я, если б вас люди случайно не увидели, товарищи Каневские, эх, товарищи Каневские!
Даня смотрел в лицо брату, сквозь черты начальника агитпоезда проступил мальчик, которого он когда-то знал, этот мальчик смотрел на него растерянно и непонимающе, как будто говорил: Даня, ну как же так, – как тогда, в Харькове, когда их дом плотной толпой окружили чужие, плохие люди, как тогда, когда чужие люди приводили его с улицы, куда он тайком от мамы убегал гулять каждый день, этот мальчик по-прежнему смотрел на него таинственными глазами существа, у которого есть с господом богом какая-то не то явная, не то тайная связь, и смотреть от этого в его глаза было трудно. Миля, дорогой, Даня стал гладить его по лицу, а товарищ Семенов продолжал сурово отчитывать их обоих: знаете, что я вам скажу, товарищи Каневские, все это в общем-то, нарушение не только воинского, но и партийного устава, вы должны находиться в штабном вагоне, и там учить свои роли, из пьесы товарища Луначарского. Какие же все вокруг хорошие люди, вдруг подумал Даня, какие же они все хорошие люди, ну вот кроме этих, не наших красноармейцев, ведь все остальные же наши, ну да, кроме врагов, все наши, это же так…
Напоследок Семенов сказал им строго, что они хотят спрятаться от революционной действительности в теплую уютную норку, но у них это никак не получится, вы уж извините.
К вечеру лицо Дани было синим от ударов вражеского сапога, пришлось этот отрывок про Бригитту читать Эде Метлицкому, хотя он в этих дурацких спектаклях принимать участие всегда отказывался по принципиальным причинам.
Зал маленького купеческого театра был полон, двери открыты, на площади стоял народ, горел костер, летели искры, светили звезды, ритмично стучали каблуки Медеи Васильевны и других актеров рев-драмы, играла музыка, соната Бетховена номер 15, Пасторальная, солдаты слушали, изредка шумно вздыхая, в темноте иногда храпели лошади, Миля Каневский произнес в этот вечер такую замечательную речь…
Чуя свою гибель, золотопогонное офицерство хоть перед смертью старается насладиться мучением и умерщвлением революционного народа… развертывающиеся ныне на Украине события являются несомненным началом великой третьей социальной революции… искры русской революции стали зажигать костер восстания трудящихся рабочих и крестьян против ига капитала во всех странах мира…
– Товарищи! – закричал Миля. – Давайте же сейчас, сегодня, здесь поклянемся идти на врага… Да здравствует Красная армия!
– Ура.
– Да здравствует товарищ Ленин!
– Ура.
– Да здравствует товарищ Троцкий!
– Ура.
– Да здравствуют мир и согласие!
Не выдержав (а он сидел в задних рядах), Даня встал и вышел. Напряжение было слишком велико.
Как никогда он любил брата, жену, всех своих близких, всех наших красноармейцев и всю мировую революцию.
Но ему было плохо, а не хорошо. Сердце его переполняла любовь и страшная печаль. Прошедшая мимо Медея Васильевна нежно погладила его по щеке.
– Жаль, что вы у нас не выступили, – просто сказала она. – Я этого так ждала.
Глава седьмая. Малаховка (1937)
Новый 1935-й Даня и Надя Каневские встречали у Мили, в Нижнем Кисловском переулке.
Квартира была прекрасная, новая, нарядная, полная счастья и любви, – впрочем, Даня это знал заранее и заранее радовался за младшего брата.
Он вообще заранее представлял себе ту атмосферу нового быта, о котором тогда много писали и говорили – удобные простые вещи, просторные пустые стены с большими окнами, широкие и тоже пустые подоконники, фотографии самых дорогих, близких в уголке застекленного книжного шкафа. Книги. Карта мира. Радиоприемник с наушниками. Каждая вещь была не случайна. Воздух новой жизни таился как раз в этой пустоте, то есть в отсутствии лишних вещей (которых в его с Надей доме, как он считал, было предостаточно).
Надя ехала в гости совершенно в другом настроении. Да, нельзя завидовать, нехорошо – но они с Даней все-таки жили пусть в уютном, деревянном доме со своим яблочным садом и большим участком, но все-таки в коммунальной квартире, то есть с соседями. А тут, в Кисловском, это же был не просто дом, а кремлевский, с совершенно другими жильцами – этажом ниже жил знаменитый партийный хозяйственник Бонч-Бруевич, где-то рядом обитал нарком Семашко, творил писатель Леонов, да мало ли кто из знаменитостей или из партийной верхушки, она всех этих фамилий, (которые ей скороговоркой сообщил Даня), даже не знала. И главное, Надя боялась за свое платье, прошлогоднее, как ей казалось, старомодное, в которое едва при этом влезла, то есть боялась за свою располневшую фигуру, вообще ей было страшно и неловко показаться среди знатных дам – ведь дальше Минаевского рынка она целыми неделями никуда не ходила, проводила все время жизни в своих двух комнатах (хоть и просторных, удобных, но все равно к соседям она еще не привыкла), на этой колючей чужой кухне, с чужими людьми, она целиком погрузилась в завтраки, обеды, ужины, уборку, стирку, в мелочные расчеты и большие тревоги за детей. Кончился рай той легкой, летучей жизни, когда у них с Даней были временные дома, кончился Баку, где она чувствовала себя женой английского колонизатора, такого, в пробковом шлеме, где им незаметно прислуживали и раз в неделю приносили в подарок литровую банку черной икры для завтраков, впрочем, она и сама покупала ее на рынке, все было доступно. Господи, какой там был в Баку рынок, какие осетры, какие фрукты, разве здесь рынок, Минаевский, маленький, неказистый, воистину колхозный, правда она все равно его полюбила, полюбила этих женщин, в платках, их застенчивые глаза, их грубые руки, они спрашивали ее о детях, она их тоже. Но, господи, разве этот городской рынок шел хоть в какое-то сравнение с тем, бакинским, с его азиатской роскошью, с его фантастическими запахами и вкусами, с этими загадочными чернобородыми мужчинами, с этими женщинами в ярких халатах и с полузакрытыми лицами. Да, кстати, об одежде, даже на Минаевский рынок, а иногда и в консерваторию (бывали же в их жизни и такие прекрасные моменты) Надя всегда одевалась подчеркнуто старательно, но все же ощущала себя совсем не столичной, не светской, и тут, в Кисловском, ей предстояло настоящее испытание, она как будто вышла из своей коробочки, из скорлупы, она ощущала себя, как черепаха без панциря, и это было совершенно для нее мучительно. Странное дело, но этот привычный путь в консерваторию (Милин дом в Кисловском был вообще-то в двух шагах от храма музыки) на трамвае из Марьиной рощи никогда не казался Наде длинным, раз – и приехали, а тут вдруг она отчетливо поняла, как далеко от центра они живут, какое это огромное расстояние, да и вообще, сама близость Кремля, близость Сталина, до которого тут было три минуты пройти пешком, показались ей, натуре впечатлительной и романтичной, чем-то невероятным…
К концу пути она уже чуть не плакала от этой переполнявшей ее тревоги, старательно и отчужденно отворачивалась, прятала лицо в меховой воротник, Даня все это прекрасно чувствовал, но он знал, что есть одно важное обстоятельство, которое не позволит ничему и никому испортить этот семейный Новый год – Миля, дорогой, любимый брат, вот какое это было обстоятельство, самый близкий человек, с которым в его жизни было связано буквально все, который всегда помогал и всегда приходил в нужный момент на выручку.
Как бывает в хорошей симфонии, есть главная тема, лейтмотив, а есть разные части, подробности. Надя переступит порог и сразу почувствует главную тему.
Он надеялся.
Правительство накануне Нового 1935 года вернуло в календарь рождество.
Собственно говоря, это было не совсем рождество, а советский Новый год, – но суть от этого не менялась. Люди покупали елки (на рынках или везли с дачи), промышленность начала срочно выпускать елочные игрушки, пошли организованные детские праздники с дедом Морозом и Снегурочкой, например в ДК Зуева, в ДК табачной фабрики «Дукат» и, наконец, в Колонном зале, это была главная елка (говорили, что сценарий главной елки писали Кассиль и Михалков), и свою дочь Ниночку Валентина отвела именно туда, в Колонный зал, потому что Миля достал пропуск, и это было незабываемым переживанием, которым девочка теперь делилась с гостями.