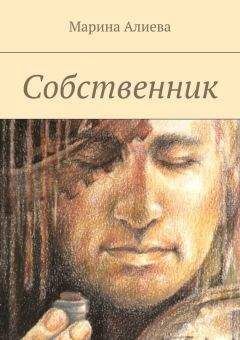– Не знаю. Может быть, – пробурчал я, снова опускаясь на колени и возвращая землю на место.
– Да как же, не знаете?! Вы бы видели себя! Женщина, пеленающая ребенка, делает это не так бережно, как вы только что раскапывали землю! Вы же почувствовали что-то необычное, да? Расскажите, прошу вас!
Я встал с колен, поднял и отшвырнул подальше, на асфальт дороги, ржавую звезду, а потом честно признался:
– Не могу, Соломон Ильич, слов таких не знаю. Сказать, что все это странно, значит не сказать ничего. И, ей богу, сейчас лучше ничего и не говорить.
– Понимаю, – с готовностью кивнул Довгер. – Но, если это не случайность, если вы сможете так же относиться и ко всему остальному, то, честное слово, тогда нам бояться нечего! Мы с вами вполне можем добиться конкретных успехов и, кто знает…
Он замолчал, приложив палец к губам, потом обогнул памятник и снова встал перед дядиной фотографией, прижимая к груди коробку с дневником.
– Вася, что бы там ни говорили о невозможности жизни после смерти, но это сейчас ты сделал. Я у Саньки твоего таких глаз даже в детстве не видел, не говоря уж про последние дни! Спасибо, друг! Спаси и сохрани…
Соломон Ильич троекратно, по-христиански, перекрестился и, с просветленным лицом, повернулся ко мне.
– Пойдемте, Саша, я хочу, чтобы и Олег с Алексеем тоже вас… прочувствовали и порадовались.
После кладбища мы вместе поехали на вокзал. Я решил проводить Соломона Ильича, особенно после того, как узнал, что Паневиной там не будет.
– Не любит она этих вокзальных прощаний, – объяснял Довгер, пока мы шли к остановке. – Говорит, что человек, вышедший в дверь, всегда оставляет надежду, что он когда-нибудь в неё и войдет. А эти монстры – она так поезда называет – увозят безвозвратно.
– Странное видение, – заметил я.
– Да нет, у неё это с юности – страх перед поездами. Родители Валентины погибли в железнодорожной катастрофе, а она только-только вышла замуж и ждала ребенка. За одной трагедией последовала другая, и больше Валентина иметь детей не могла. Или не хотела. Во всяком случае, Алексей считал, что причина бесплодия его жены в большей степени психологическая, чем физиологическая, и старательно искал способ этот психологический барьер переломить. Поэтому, когда друзья рассказали ему об эликсирах Галена, Алексей, естественно, загорелся.… Однажды он попросил разрешения использовать «третий глаз», чтобы понять, как можно вылечить жену деликатно, без нажима. Но я предупредил, что, иной раз, смотреть на близких таким образом бывает очень проблематично. Покровы заблуждений не всегда уместно срывать в собственном доме, и Алексей от идеи с «третьим глазом» отказался. Но попросил меня, как медика, (и неплохого, замечу, медика), прийти к ним и, хотя бы, побеседовать с Екатериной. Я согласился, пришел, глянул на неё и пропал.
– Да, она была красивой женщиной.
– Нет, нет! На женскую красоту я, за свою долгую жизнь, насмотрелся, так что этим меня удивить трудно. Увидел я совершенно иное – полное, абсолютное совпадение её сути и моей. Как говорят, две половинки одного целого. И она смотрела так, будто имела свой собственный «третий глаз». Смотрела внимательно, пронизывающе, понимая то же самое, что понял и я… Конечно, Алексей все сразу заметил, и ему это, естественно, не понравилось. Но, что мы могли поделать? Уж и так держали себя в руках, чтобы не опускаться до пошлого адюльтера. Только после смерти Алексея я пришел к ней, все рассказал о себе, о своей семье, и предложил уехать со мной. Но она отказалась. И, знаете, (вот ведь странно все-таки устроены наши мозги), своим отказом Валентина только подтвердила то, что я в ней увидел. Кто угодно мог согласиться, но не она. «Я, – говорит, – Семушка, всю жизнь цветы выращиваю и знаю – переставь иной цветок с окна на окно, и он зачахнет. Только там и цветет, где пророс и окреп. Лучше ты ко мне приезжай, если сможешь. А не сможешь…, ну, что ж, я тебя и так никогда не забуду…».
На вокзале я ограничился тем, что проводил Довгера до камеры хранения и подождал, пока он забирал свой багаж, состоящий всего из одной дорожной сумки, да и то, кажется, полупустой. Соломон Ильич уложил в неё коробку с дневником, зачем-то похлопал себя по карманам, осмотрелся и развел руками.
– Ну что, Саша, давайте прощаться. Там, на перроне, это всегда как-то глупо. Стоят, молчат, или, ещё того хуже, смотрят друг на друга через окно. Вам подобные места посещать противопоказано, особенно теперь.
– Как хотите, – сказал я. – Счастливо доехать, Соломон Ильич.
– Спасибо.
Мы неловко помолчали, кивнули друг другу и разошлись.
На привокзальной площади, запруженной маршрутками и встречающее-провожающей толпой, сновали таксисты и частники, высматривая особо нагруженных пассажиров. Нагловатого вида молодые люди воровато шныряли глазами по сторонам, и, нервно куря, подходили друг к другу с каким-то коротким сообщением, а затем, сплюнув, как по команде, снова расходились. Обширная дама, тяжело дыша, неслась к дверям вокзала, волоча одной рукой гигантский баул, а другой – девочку лет восьми. Не будь вокруг защитной сферы, она бы проутюжила меня, как танк. А так лишь отскочила, словно стукнулась лбом, и ядовито прошипела: «Господи! Встанут вечно…»
Откуда-то сбоку сильно пахнуло мочой и спиртным, и я поспешил уйти.
Куда же мне теперь?
Домой не хотелось – что там делать? Ходить по улицам тоже не выход – опять привяжется какое-нибудь быдло. А даже если не привяжется, то и на улицах особых дел не было. Уж не вернуться ли на кладбище?
И тут вдруг словно обожгло, а не пойти ли мне к дому Екатерины? Взглянуть на неё по-новому, может, и не стоило так переживать из-за её отказа? Сказал же Довгер – на близких, иной раз, пристально лучше не смотреть. А я посмотрю, не побоюсь, мне терять нечего.
Сказано – сделано!
Идти, конечно, не близко, но ведь и спешить особенно не надо, время ещё есть.
Я задумался, прикидывая маршрут, которым лучше пойти, как вдруг заметил неподалеку страстно целующуюся парочку. Собственно говоря, внимание обратил не столько на них, сколько на замшелую старуху, которая крутилась возле, поливая целующихся бранью и матом. Те, естественно, на старуху внимания не обращали, чем приводили её в полнейшее неистовство.
И эта картина показушной любви на фоне выходящей из берегов злобы, немедленно отозвалась во мне сильнейшим раздражением.
– Совсем стыд потеряли, сволочи! – визжала старуха, – Лижутся у всех на виду, как (нецензурно), ещё бы прямо тут (нецензурно, нецензурно) разлеглись!
Визг старухи разбудил заснувший, было, гнев.
Я и раньше с трудом выносил шумные скандалы, а уж орущих по-базарному теток ненавидел всей душой. От нестерпимого истеричного крика по всей спине словно проросли острые шипы, как у какого-то чудища из фантастического фильма ужасов.
– Рот закрой! – громко приказал я, чувствуя приближение приступа.
Старуха услышала, резво повернулась ко мне, явно радуясь, что сейчас состоится милый её сердцу диалог, и, угрожающе тряся сумкой, завизжала ещё громче:
– А ты (нецензурно) чего лезешь?! Я заслуженный человек! Я имею право! А вас всех…, – и дальше сплошь нецензурно.
Волна гнева радостно взметнувшись, подтолкнула меня, и я пошел на старуху, ещё толком не зная, что сделаю, но, уже испытывая облегчение от того, что подчиняюсь этой волне. Застоявшаяся благость вдруг показалась неудобной, больной и совершенно ненужной. В двух шагах от нас стояла благочинная супружеская пара, которая презрительно морщилась на все происходящее, но при этом совершенно не замечала, с каким интересом слушал старухины словесные выверты их десятилетний отпрыск.
– Идиоты! – процедил я на ходу.
Но тут старуха, словно осознав, что не на того напоролась, шустро юркнула в противоположную от меня сторону и растворилась в вечерних сумерках. (Поразительно, как все-таки эти гнусные скандалисты умеют распознавать, с кем лучше не связываться! Не иначе и у них «третий глаз работает на полную катушку).
Я замер. Гнев, оставшийся без объекта, глухо рыкнул и повернул меня к переставшей целоваться парочке.
– Извините, – неизвестно зачем пискнула девушка, – мы нарочно не хотели делать по её… Совсем достала…
Парень предпочел отмолчаться, но смотрел с вызовом – хорохорился перед подружкой, хотя явно побаивался.
– Вам что, чувств своих не жалко? – спросил я сиплым от злобы голосом. – Не знаете, как их верней опошлить? Испортили себе прекрасные мгновения, ради дешевой показухи. Дома этим надо заниматься, дома! Или там, где никто не видит! А если сейчас весь этот мир взорвется к чертовой матери, что вам останется? Слюнявый поцелуй назло старухе-матершиннице?! Может, ещё скажете после всего этого, что у вас любовь…