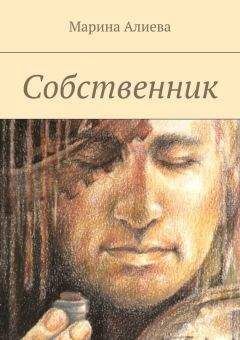Валентина Георгиевна с сочувствием посмотрела на меня.
– Бедненький. Тяжело вам пришлось?
Я вздохнул.
– Да как сказать. Когда все позади, кажется, что не так уж и страшно было.
Паневина понимающе прикрыла глаза, а я, вспомнив прошедшую неделю, подумал: «Страшно было, дорогая Валентина Георгиевна, очень страшно. И теперь я так спокоен и весел вовсе не потому, что все уже позади, а потому, что принято, наконец, решение…»
– А я вас искала в эти дни, – сказала Паневина, отвлекая меня от мыслей. – Соломон Ильич вам посылку прислал. Передал с одним человеком прямо из Москвы. Пишет, хорошо, что там теперь все можно достать… Подождите, я сейчас принесу.
Она вышла в соседнюю комнату и, почти тотчас, вернулась, неся в руках аккуратный деревянный ящичек с крышкой.
– Здесь все натуральное, – гордо сообщила Паневина, поглаживая крышку. – Сема очень хотел, чтобы вы, как и дядя, вели записи, и обо все позаботился. Смотрите, какая прелесть!
Она бережно подняла крышку, приглашая меня полюбоваться содержимым. И, право слово, было чем! Кроме увесистой пачки настоящей рисовой бумаги, в ящике лежал деревянный резной держатель для перьев, коробка с самими перьями и набор фарфоровых чернильниц.
– Какие они чудесные, правда? – ворковала Паневина. – Вы, Саша, когда используете хоть одну, не выбрасывайте её, ладно. Я бы с удовольствием забрала…
– Я вам все потом отдам.
Забота Довгера растрогала. Вещи явно были очень и очень дорогие. Не удивлюсь, если старинные, хотя…
Я потрогал ящик и коснулся всего, что в нем лежало.
Нет, вещи новые. В них ещё сохранился испуг исходных материалов перед обработкой, но испуг не сильный – все-таки тут была ручная работа. Довгер действительно позаботился обо всем.
– Передайте Соломону Ильичу огромное спасибо, – сказал я. – Тронут. Очень тронут. Тем более, что его желание полностью совпало с моим.
– Так вы и сами собирались писать? – обрадовалась Паневина.
– Собрался, да. И вы, уж пожалуйста, не откажите в любезности, сохраните потом мои записи для него, ладно?
Лицо Валентины Георгиевны испуганно вытянулось.
– А вы сами, что же? – пробормотала она.
И вдруг, словно догадалась, всплеснула руками.
– Саша, что вы задумали?! О, Господи! Я же сразу поняла, что-то у вас случилось! Но, умоляю, не спешите! Не делайте ничего такого, что потом нельзя было бы поправить. Дождитесь Соломона Ильича, он поможет, если что-то не так!
Она замолчала, увидев широкую улыбку на моем лице.
– Валентина Георгиевна, я ничего ТАКОГО не задумал. Но, вы же понимаете, положение, в котором я оказался, не позволяет далеко загадывать.
– У вас участились приступы, да?
– Нет. Они не сильней, чем прежде, но все ведь может измениться, не так ли?
– Да. Наверное…
Мы посмотрели друг на друга.
Конечно же, она все поняла. Но, слава Богу, ничего не стала уточнять. Просто проводила до дверей и сказала на прощание:
– Как жаль, что я не могу обнять вас.
А потом поспешно закрыла дверь.
Спасибо, дорогая Валентина Георгиевна, за эти слезы, пролитые по мне. И очень хорошо, что я не стал вам ничего рассказывать. О чем говорить? О том, как во дворе Екатерининого дома неясный призрак подсказал мне выход? О том, как я смертельно испугался того, что выход этот единственный и попытался найти иной? Как ходил по улицам, смотрел на людей и учился их любить? Но из этого все равно ничего не вышло. Единственное, чего я достиг – это умения обращать ненависть на самого себя. Стоило увидеть человека, который чем-то раздражал или отталкивал, как тут же говорил себе: «А ты-то чем лучше?», и злость отступала. Но добрее от этого я не стал. Тем же вечером, когда стоял под окнами Екатерины, уже возвращаясь домой, снова впал в бешенство, увидев трех сопляков, матерившихся через каждое слово. Прошел мимо, а потом взбесился ещё больше, но теперь на самого себя, хотя, что я, в сущности, мог сделать? Читать им мораль? Воспитывать? Все это было глупо, пошло, и, самое главное, неэффективно. По моему нынешнему разумению, заткнуть эти матерящиеся глотки можно было только одним – убить. Но этого-то делать было, как раз, нельзя…
А что можно?!
Можно смотреть на милых забавных малышей и умиляться? Но куда деть мысли, которые возникают при взгляде на их родителей? Кого скопирует, став взрослой, эта прелестная девчушка в невесомых кудряшках? Свою мамашу – совсем ещё молодую, но уже ставшую теткой из-за неопрятности, вываленного живота и вульгарных манер…
Можно радоваться, глядя на влюбленных, которые легко распознавались в толпе по совершенно одинаковому сиянию. Но рядом, в той же толпе, серыми пятнами расплывались одинокие, никого уже толком не любящие лица, и скучные супружеские пары, где и он, и она смертельно устали друг от друга.
Господи, восклицал я тогда, неужели ничего доброго и хорошего мне больше не увидеть?! Но так нельзя! Я должен пытаться! Должен бороться сам с собой. Ведь было же, было то немыслимое, напоминающее счастье, переживание, которое случилось со мной, на кладбище, когда руки погрузились в землю! Может быть, попытаться ещё раз? Что если несколько дней, проведенных там, где нет людей, очистят меня, и вернусь я совсем другим?
И я пошел через весь город, рассчитывая когда-нибудь дойти до какого-нибудь поля или леса. Шел, осматривая пустеющие к ночи улицы, и тоскливо думал о том, что не могу до конца порадоваться собственной свободе. Раньше, когда мы с Екатериной возвращались из поздних гостей или просто ходили погулять, мне нравились и эти пустые улочки, и таинственные ночные тени на них. Особенно летом, когда, после жаркого дня, спускалась приятная прохлада, или снежной, морозной зимой, под тихо падающим снегом. «Очень романтично», – думали мы тогда. Но, может быть, дело было вовсе не в романтике, а в том, что людская суета в такие минуты замирала, и в тайных, непознанных ещё уголках сознания, возникало НЕЧТО?
И этим НЕЧТО вполне могла быть та диковатая музыка, которая, теперь уже постоянно, звучала у меня в голове.
Она звучит и сейчас, когда я пишу все это, только теперь нет больше тайны. Хотите верьте, хотите нет, но слышу я голос нашей планеты. Ту самую музыку, по которой её узнают во Вселенной существа, не растратившие свой мозг на научно-технический прогресс.
Мы так гордились своими полетами в космос, но где теперь эта гордость? Да, конечно, тяжеловесные, дорогостоящие аппараты могут взлететь и улететь очень далеко, но дальше-то, что? Так ли уж много нового узнали мы о своих соседях по Галактике после этих полетов? Или, может, просто заново изобретаем велосипед?
Как-то, в нормальной жизни, я читал о диком племени, чудом избежавшем цивилизации и сохранившем в своих преданиях, в форме сказки, точнейшие астрологические знания о таинственной планете Сириус и его спутниках! А каменные календари майя! Дольмены Европы, испещренные таинственными числами, подчиняющимися законам Галактики! Пирамиды Египта, наконец! Когда-то целые народы могли слышать голос планеты, в этом я нисколько не сомневался. Потому что, слушая музычку из плеера, сфинкса, приветствующего созвездие Льва, не забабахаешь. И тонкий луч, от только что взошедшей звезды, в узкую каменную щель гигантского строения не поймаешь, запусти, хоть тысячу ракет! Тут надобен всего лишь мозг. Полноценный, включенный не на одну десятую часть, а на полную катушку!
И в том лесу, куда я добрался, ближе к рассвету, под высокими, порыжевшими соснами, я СВОЙ мозг подключил!
Скажите, видели ли вы Луну не привычным плоским блинчиком, а именно планетой, висящей над нами? Чудным галактическим подарком, которым нужно и должно любоваться, удивляясь такому близкому и доброму соседству? Ощущали звездное небо не куполом со сверкающими точками, а бездонной, безграничной Вселенной, в которой разнообразные таинственные шарики-планеты живут, перемигиваются, посылают друг другу сигналы? Не казалось ли вам тогда, что все мы, как несчастные сироты, стоим под окнами прекрасного дворца и только смотрим на плавно танцующие тени за окнами?
Если да, то вы должны помнить, каких усилий требует это «видение», как легко оно ускользает, и нужно снова и снова напрягать воображение, чтобы вернуть, ухватить, задохнуться от восхищения перед приоткрывшейся тайной!
А теперь представьте, ЧТО было со мной, когда, глядя на бледный серп Луны и посеревшее, предрассветное небо, я вдруг ощутил, что напрягаться не надо, все ощущения приходят сами, легко и просто. И, одновременно с этим, то ли сам мой взор, то ли бестелесный какой-то дух, смотрящий моими глазами, пронесся сквозь стволы деревьев к линии горизонта, «завернулся» за неё и полетел дальше и дальше, сворачивая в теплый голубоватый шар землю, на которой я сидел!
Как же любил я в тот момент все, что меня окружало!