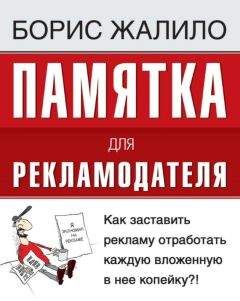«В объятиях красивой природы, в живописнейшем местечке среди лесистых сопок, располагалось красивое таежное село Пылёво – моя родина. Исключительно удобное место по достоинству было оценено еще в семнадцатом веке. Наши предки наверняка были поражены богатством и красотой этой местности. Кругом непроходимая тайга, где грибы и ягоды, а на лесных полянах – море цветов. Когда-то первые засельники метр за метром отвоевывали землю у суровой тайги, чтобы вырастить хлеб. Поля вокруг были небольшие, словно заплатки. Защищенные от ветров, они давали хорошие урожаи. В реке всегда было много рыбы, в лесу – зверей.
Люди здесь жили гостеприимные, накормят проезжего всем, чем богаты сами, наварят ухи или затушат мяса с рассыпчатым картофелем.
Стояло Пылёво на видном месте – высоком берегу, окруженное с одной стороны тайгой. Летом долины вдоль берега были все в цветах. Зимой, когда река покрывалась льдом и снегом, между холмами и изгибами стелилось такое широкое белое поле, что дух захватывало. Как жалко, что теперь ничего этого не стало».
Как-то с листочком пришел и Геннадий. Долго мусолил его, потом не выдержал:
– Я тут стишок… ну, написал, в общем. Послушаете?
Стихи и песни в Пылёве сочиняли многие, поэтому не особенно удивились. Хотя от Генки этого не ожидали – он всегда лирику не любил, посмеивался.
– Давай-давай, Ген!
– Чего…
Замолчали. Смотрели в стороны или в пол, чтоб не смущать. Геннадий тщательно прокашлялся и начал:
Богучаны, Богучаны –
Заполняет землю тухлая вода,
Создавая олигархам океаны
Для процентов новых с рабского труда.
– Нет, – скомкал бумажку, – не в этом дело. Не про то…
– Ты чё, Ген?! Нормально…
– Да не про то, говорю же. Не в олигархах дело, не в плотине, алюминии… И не в том даже, что мы свою родину потеряли. Не от этого тошно.
– А от чего? – суховато спросил старик Мерзляков.
– Ну, мне вот лично не от этого. Я, как… как вы видели, знаете, никогда особо этой деревенской жизни не радовался. На огород меня силком жена тянула. Грядку выполоть – хуже, чем повеситься… Мне легче было трактор перебрать, чем картошку протяпать. Ну не лежала душа, с детства не лежала… А теперь маюсь, и снится огород этот чёртов, двор свой, хоть и жаловаться вроде грех – квартиру нормальную дали, работа – не копейки платят, тем боле не на горбу таскаю мешки, а тележкой, цивилизованно…
– И к чему ты все это? – устав слушать, поторопил Виктор.
– К тому, что не саму деревню нам жалко. Ладно, – поймав глаза мужиков, Генка поправился, – мне, о себе говорю… Не деревню саму и эту жизнь деревенскую, а… Там я жил, томился по чему-то такому, по другому. И вот попал в другое, и чувствую – потерял защиту… Не такую, что, в смысле, от земли оторвали, а… а другую какую-то… Как объяснить?..
– Чего-то ты такое загнул, что сам вон запутался, – усмехнулся Игнатий Андреевич. – Скажи прямо: скучаю по деревне, жалко…
– Скучаю. Скучаю, но не потому, что мне там хорошо было. Хм, – Геннадий усмехнулся пришедшему сравнению, но все же произнес его: – Так вот некоторые, слышал, по тюрьме скучают.
– Ну-у!
– Или по армии. По армии же скучаете? А точней всего, думаю, это как если монастырь закрыть и монахов разогнать, чтоб они в миру жили… Они будут жить и мучиться, о своем монастыре плакать.
– Какой у нас монастырь! – хохотнул Женька Глухих. – У нас такие были ягодки в Пылёве!
– Я ж не в этом смысле…
– Ну да, Ген, – сказал Брюханов, – я понимаю, кажется… Я тут одну историю вычитал: в тридцатые годы на Волге построили станцию, и там огромные территории затоплялись, переселяли сотни тысяч. И я нашел документ в компьютере, что двести с чем-то человек отказались переселиться и утонули.
– Ни хрена себе!
– И под документом, в обсуждалке, целая ругачка: одни говорят, что быть такого не могло, фальшивка, мол. Что, дескать, вода медленно поднималась, месяцами, их бы всех переловили и насильно увезли бы. А другие – нет, могли утонуть, в подполье набились, в ямы…
– В тридцатые годы – могли, – задумчиво произнес старик Мерзляков. – Тогда другой народ был. Это нас, как баранов, погнали, и мы побежали.
– Хм! – Генка стал расправлять листок. – У меня тоже тут про баранов было… Щас…
Только вот в какие страны
Потечет дешевый ток Сибири?
И дешевый алюминий
Чьи заполнит закрома?
Мы же все, о господи, бараны,
Не хватает нам ни чести, ни ума!
Конец посиделкам положил такой случай.
Собрались, как обычно, разговаривали. Вспоминали в кои веки забавное. По кругу байки гоняли. Смеялись. И тут – звонок в дверь.
– Виктор, видать, – Игнатий Андреевич поднялся с табуретки. – Обещался сёдни зайти.
За дверью стоял милиционер. Погоны старшего лейтенанта.
– Здравствуйте, я ваш участковый уполномоченный, – представился. – Разрешите?
Игнатий Андреевич, растерявшись, посторонился, пропустил.
– Улаев Игнатий Андреевич? – И не дожидаясь ответа, участковый прошел в комнату, на голоса. – Приветствую… Накурено-то у вас. – Не констатировал, а словно сделал замечание.
Мужики замолчали, смотрели на пришедшего. И каждому показалось, что его застали на чем-то незаконном, по крайней мере – нехорошем, предосудительном.
– А что такое? – после некоторого оцепенения спросил Алексей Брюханов.
– Да вот сигналы поступают, и я обязан проверить. Сообщают, что здесь постоянно проходят собрания.
– Собираемся земляки, вспоминаем, – спохватившись, что он здесь хозяин, сказал Игнатий Андреевич. – Чего тут такого?
– Да я понимаю. – Участковый покивал, но так, будто не поверил. – Понимаю… И в то же время обязан проверить. Тем более обстановка в стране не очень простая, разные силы появляются… Слышали, в Москве заговор раскрыли? Нет?.. По телевизору постоянно передают: группа лиц планировала Транссиб перекрыть, зэков поднять в Ангарске, чтоб беспорядки устроили… Встречались с зарубежными разными хмырями… Арестовали их, допрашивают, сообщников ищут… Блогеры, сепаратисты всякие голову подняли…
– А кто это – сепаратисты? – спросил Игнатий Андреевич с усмешкой, вспомнив слово «сепаратор».
– Кто отделиться хочет. Чтоб, например, Сибирь отдельно была.
Женька Глухих шутливо обрадовался:
– А и неплохо бы…
– Ну-ка! – Уполномоченного как ошпарили. – Не надо таких заявлений. За них теперь и загреметь можно… Так что, – снова оглядел сидевших в комнате немолодых, потрепанных, с морщинистыми напряженными лицами мужиков, – так что, граждане, прошу быть поаккуратней. Договорились?
Они без готовности покивали.
– А вы, – повернулся участковый к Игнатию Андреевичу, – хозяин квартиры, как я понимаю.
– Но.
– Я к вам, если позволите, буду заглядывать. Вы человек одинокий, пожилой. Вдруг что…
Когда он ушел, повозмущались, посмеялись. Вроде отнеслись к этому визиту как к недоразумению какому-то, анекдоту. Но с этого дня стали приходить к Улаеву все реже и все меньшим количеством. А через месяцок посиделки и вовсе прекратились.
Нет, не то чтобы мужики испугались милиционера с его предостережениями, но как-то неуютно, недушевно стало. Сломало его вторжение настроение, убило теплоту. И даже грусть воспоминаний стала какой-то ненастоящей, наигранной.
Игнатий Андреевич проводил дни перед телевизором. Смотрел всякую ерунду; попадая на новости, скорее переключал каналы. Но успевал услышать: в Сирии бои, сотни убитых и раненых, бывший полковник Квачков приговорен за подготовку мятежа к тринадцати годам заключения, в Либерии разбился самолет, в Республике Коми взорвался газ в шахте, разбился самолет на Украине, в Европе в каком-то блюде вместо говядины обнаружили конину, и это вызвало грандиозный скандал…
Каждая отдельная новость, каждая передача вообще-то располагали к раздумьям, но их было так много, они лились таким непрерывным потоком, что в них попросту захлебываешься, тонешь.
Читать Игнатий Андреевич не любил, не понимал, как можно часами ползать взглядом по строчкам. Всю жизнь он занимался физическим трудом: копал землю, ворочал назём, прибивал доски, ставил столбы, – и теперь, ничего не делая два года, чувствует, как дряхлеет, размякает, слабнет.
Уже через несколько месяцев после переезда напугали руки, кисти рук. Задубевшая, почти окаменевшая кожа стала сначала шелушиться, а потом отслаиваться целыми пластами. Желтовато-серые панцири мозолей на ладонях и у основания пальцев отпадали, но отпадали не сразу, а постепенно, с одного края. Игнатий Андреевич пытался отдирать их, но не получалось – было больно. Словно отдираешь недозревшую коросту.
Под этим сходящим панцирем появлялась красная, как после ожога, тоненькая кожа. Щипало, когда мыл посуду, да и просто умывался. Пальцы стали гибкими, чувствительными к любой мелочи. Даже отдельную крупинку сахара могли распознать.