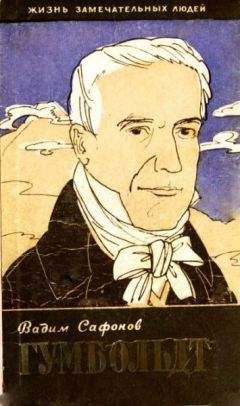Я застегнула блузку, поправила жакет и чувствуя, что уже совсем заигралась, все же не удержалась от того, чтобы добавить:
– Не только рабочий класс и угнетенные народы недовольны. Некоторые аристократы тоже не в восторге, так сказать, от… – и многозначительно замолчала.
Кажется, я их здорово напугала.
Но зато я смогу узнать, что у моей мамы с этой Анной, с этим Петером, а главное, с этим якобы итальянцем, с этим красавцем Габриэлем. Моя с бухты-барахты снятая квартирка – пусть они думают, что это одна из секретных квартир в сети аристократического заговора.
– Ну а теперь, – сказала я, обращаясь к Петеру, – расскажите мне про Москву. Расскажите мне про маэстро Станиславского.
– А вы о нем тоже знаете? – спросил Петер.
– Представьте себе, – сказала я. – Но только понаслышке. И в несколько в странном контексте. Никаких подробностей. Но! Но у нас в доме, когда кто-то неудачно притворялся или неловко врал, ему всегда говорили: «У тебя не получается притворяться. У тебя не получается играть эту роль. Езжай в Москву учиться у маэстро Станиславского…»
Это мама говорила папе, в папином пересказе, разумеется. Это мама говорила папе, когда он пытался изобразить из себя эдакого властного степного помещика.
– Так это действительно великий артист? – спросила я.
– Более чем великий, – сказал студент. – Великий актер и великий постановщик. Он создал великий жизненный театр. Все как в жизни. Как будто заглянул в окно чужого дома, и там идет настоящая, вот поверьте мне, самая настоящая жизнь. Вы знаете, там даже запрещено аплодировать, на билетах написано. Чтоб у зрителей была полная иллюзия, что они смотрят в окно чужого дома.
– Просто прелестно, – подала голос Анна. – Они на сцене не играют, они просто живут. Они даже не поворачиваются специально лицом к залу. Ну вот правильно Петер сказал – как будто в окно подглядываешь.
– А вы тоже были в Москве? – спросила я. – Завидую.
– У вас все впереди, – сказала Анна, вдруг подобрев ко мне.
Еще бы. Ведь я так простодушно позавидовала тому, что они с Петером вдвоем были в Москве, вдвоем ходили в театр, сидели рядышком, соприкасаясь локтями.
– Надеюсь, – сказала я. – Да, это было бы неплохо. Эдак смотаться в Москву. В Москве есть опера?
– Разумеется, – ответил Петер, – и не одна. Есть императорская. Есть частная.
– Чудесно, – сказала я. – Вы мне тогда скажете, что стоит в Москве посмотреть.
– Посмотрите «Вишневый сад» в театре у Станиславского, – сказал Петер.
– Он так и называется, кстати? Театр Станиславского? – спросила я.
– Нет, – сказала Анна. – Он называется «Московский художественный». А «Вишневый сад» посмотрите обязательно.
– Что-нибудь лирическое? – Я покрутила носом. – Или японское? Любовь самурая и гейши под цветущими вишнями?
– Ах, что вы! – сказал Петер. – Поразительная история. Автор обозначил как комедия. Это, действительно, комедия, но почему-то хочется плакать. Помещица, имение все в долгах. Ей предлагают продать его, чтобы на этом месте были загородные дома для богатых горожан.
– Ого! – сказала я.
– Для нее это единственный выход из положения, – подхватила Анна. – Она на этом может получить много денег, расплатиться с долгами, уехать в Париж и все такое. Но она не желает.
– Почему? – спросила я.
– Потому что ей нравятся эти просторы, эти поля, сады. Это все принадлежит ей. Это ее детство, ее юность, наконец, это красота русского пейзажа, который хотят изуродовать пошлыми виллами, и она говорит: «Нет, нет, ни за что!».
– Дура, – сказал Петер. – Настоящая самовлюбленная дура.
– Но её все равно жалко, – сказала Анна.
– Ну разве чуточку, – согласился Петер и слегка погладил руку Анны чуть выше запястья. Ей сделалось еще спокойнее, и она посмотрела на меня еще доброжелательнее, чем минуту назад.
– Чудесная пьеса, – сказала я. – Просто поразительно, как все по-разному бывает в жизни. А вот я знаю одного дурака-помещика, который всё наоборот. Ему наплевать на эти просторы и перелески, на воспоминания детства и юности тоже. Он кричит: «Мещане! Буржуазия! Да приходите же сюда! Купите мою землю! Недорого отдам! Стройте себе дома и виллы! Живите! Веселитесь! Здесь такой пейзаж, такой чудный воздух, такие реки и пруды! Вам понравится!» А они нос воротят. «Нам, – говорят, и даром этого не надо». И он очень огорчается. Почти как та барыня у маэстро Станиславского. Только у нее хотят отнять родные просторы, а у этого никто не хочет их забрать. Но вообще одно и то же. Как вы думаете, – спросила я, поочередно глядя на Анну и Петера, – он тоже смотрел этот спектакль? Или сам придумал?
– Трудно сказать, – пожала плечами Анна. – Бывают такие сюжеты, которые сами возникают в жизни.
– Но тут же все наоборот, – возразил Петер.
– Какая разница? – засмеялась Анна. – Иногда только кажется, что наоборот. А на самом деле то же самое. Ваш отец бывал в Москве? – обратилась она ко мне.
– Что мы привязались к этой пьесе, право? – сказала я.
– Это гениальная пьеса, – сказал Петер.
– Или опера, – сказала Анна.
– Бог с тобой, какая опера? – спросил Петер.
– А ты не помнишь, в прошлом сезоне здесь была такая. Кажется, она называлась «Флер де Помье». Какой-то французский композитор, фамилию забыла. Там тоже была какая-то графиня, какой-то соседский герцог точил когти на ее земли, а какой-то барон предлагал ей свое покровительство и говорил, что он поселит на ее землях своих рыцарей. Рыцарей будет много, и они защитят несчастную графиню от алчного герцога. А она все время отказывалась. Там были очень красивые дуэты и квартеты. Дуэт герцогини и барона, квартет герцогини и ее кузена, ее воспитанницы и барона и очаровательная каватина школяра Пьера. Он был похож на тебя, – сказала она, совершенно по-детски ткнув пальцем в Петера. – Я сразу подумала: школяр Пьер, студент Петер, ну просто одно и то же.
Кажется, я начала вспоминать. По-моему, я тоже слышала эту оперу в позапрошлом сезоне. Но она мне показалась неинтересной по музыке. Эти дуэты, квартеты и каватины, от которых в таком восторге была Анна, мне показались слишком примитивными. Зато хороший сюжет.
Вот ведь беда – в опере всегда так. Или музыка хорошая, или сюжет завлекательный и понятный. Совмещать не получается. Ах, боже мой, я выражаюсь, как оперный фельетонист из «Театрального обозревателя». Такое же всезнающее презрение. Это неправильно. В конце концов опера – это только развлечение. А если люди честно старались тебя развлечь в течение четырех часов, их надо за это искренне поблагодарить. Наверное, прав был папа.
Помню, однажды в фойе кто-то спросил его в антракте:
– Как вам весь этот праздник пошлости, господин Тальницки?
Давали «Кармен».
– Я бы поостерегся от таких оценок, – сказал папа.
– Неужели вам нравится?
– О, да.
– Но почему? Что здесь может нравиться?
– Послушайте, – сказал папа, – сколько стоит билет в кресла?
– Если не в первые ряды, то двадцать – тридцать крон, – ответил этот господин. – Но я-то сижу в первых.
– Отчего же скрываете цену?
– В первые два ряда билеты не продаются, – сказал господин. – В первые ряды приглашает дирекция.
– Тем более! – воскликнул папа, едва не воздев руки кверху, к расписному потолку в фойе. Я стояла рядом и ела мороженое костяной ложечкой и слушала их разговор. – За какие-то жалкие двадцать крон, – пылко говорил папа, – сотня музыкантов и десятки певцов развлекают вас в течение четырех часов, поют и пляшут, и пилят смычками. Аж пот с них льется. И все то за какие-то несчастные двадцать, пусть даже тридцать крон! А вы так и вовсе наслаждаетесь всем этим бесплатно, ежели сидите на местах дирекции. Отчего бы попросту не поблагодарить актеров? Я, например, испытываю чувства самой глубокой, самой искренней благодарности. Хотя, уверяю вас, моя ложа обходится мне гораздо дороже тридцати крон за вечер…
Последние слова он договаривал уже в спину уходящему господину, которому, наверно, папино морализаторство было настолько поперек горла, что он даже рискнул повести себя невежливо, не сказать – оскорбительно.
– Какой невежливый господин, – сказала я папе.
– Просто хам, – сказал папа, – и претензии у него хамские. Пошлость осуждают чаще всего пошляки. Запомни это, Далли.
Так что я была против этих тщательных и издевательских разборов опер, которые появлялись в нашем «Театральном обозревателе». Мне казалось, что опера – это прекрасно само по себе. Как новогодний бал, как елка, как катание на коньках в парке или мой день рождения, который мы справляли тридцатого мая у нас в усадьбе.
Тут я вспомнила, что уже конец апреля, а мы все еще здесь. В имении перестилают крышу. Значит, мой день рождения будет отмечаться тоже здесь, в Штефанбурге, первый раз за всю мою жизнь. Оставался всего месяц, а папа еще ничего об этом не говорил. Впрочем, и в имении никто об этом не говорил раньше, чем за неделю. Но там-то все было заведено издавна. Там-то все было понятно: где будет стоять стол, кто будет приглашен в гости. Список гостей был утвержден, кажется, когда мне было лет восемь, а может быть, и раньше, и с тех пор не менялся. Во всяком случае, последние восемь лет я не видела на своем дне рождения ни одного нового лица. А как будет здесь? Ничего не понятно. Нельзя сказать, что у меня сильно испортилось настроение, когда я вспомнила об этом, но все же я задумалась, потому что не могла решить, что будет лучше. Если папа придумает, кого пригласить, и устроит точно такой же праздник у нас дома или, скажем, наймет шатер в парке. Но откуда брать гостей? Или просто утром тридцатого мая он преподнесет мне подарок, а в обед отведет в какой-нибудь особенно модный ресторан? Если так, то я хотела бы позвать госпожу Антонеску, а папа пусть будет с Генрихом, чтобы хоть четыре человека за столом сидели. А может быть, позвать маму? О нет, боюсь, что это невозможно. Хотя жаль. Но, может, папа вообще обидится на меня за все, что было в эти дни и за сегодняшний вечер тоже, преподнесет мне какую-нибудь ерунду в бархатной коробочке, поцелует в лоб, пожмет руку и делу конец: ты хочешь быть самостоятельной, дочка? Пожалуйста.